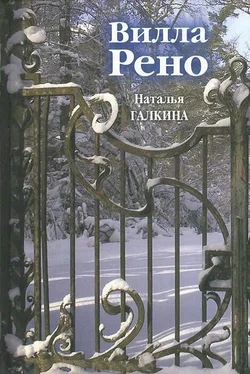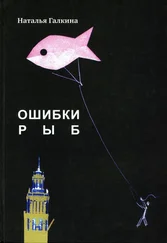Долго, очень долго не находилась нужная пьеса. То не хватало героев, то героинь, то лишние толпились персонажи, то амплуа не подходили. Наконец остановились на нескольких сценах из разных спектаклей и паре концертных номеров с пением и плясками. Первый театральный вечер решено было приурочить к Святкам, второй — к Пасхальной неделе. Собирались играть фрагменты из «Принцессы Грезы» и «Шантеклера» Ростана, «Потонувшего колокола» Гауптмана, «Синей птицы» Метерлинка, шекспировского «Сна в летнюю ночь». Текст для цветочно-овощного танца с пением вызвались сочинить братья Задонские, для чего вооружились они справочниками по садоводству и ботанике, поскольку макароническая кантата, согласно их замыслу, должна была состоять из названий растений по-латыни и по-русски, начинаясь словами: «Се-дум, седум, агератум!» — и заканчиваясь выкриками: «Свекла! брюква! клопогон!».
Роли переписали, распределили, пошли репетиции, к коим приступили в летние дни, репетируя на полянках, на пляже, в саду и огороде, на открытой веранде, в беседке; переместились в осень, артисты надели плащи, сменили обувь, вооружились зонтами, задники зелени обернулись золотом, багрянцем, киноварью, но и до зимы дотянули, от губ, произносящих реплики, пошли в воздухе облачки видимых выдохов («Ху! ху! — воскликнул Тойво. — Хукалки видно!»), и, хотя великолепны были яблони в снегу, еловые заснеженные лапы, голубые ямы теней в ослепительно солнечную погоду, а торосы на заливе сияли гренландской белизною, холод загнал артистов из лесной страны под кровлю: в сенцы, к голландской печи гостиной, на холодную летнюю безлюдную половину дома, в летний, редко протапливаемый флигель, где лежали на полу груды яблок, в примыкающий к конюшне пустеющий бычник, где хранилось сено, висели на стенах хомуты, седла, колеса, вилы, грабли, лопаты, финские сани.
Либелюль выводила на снегу тростью Мими слово «Тапиола».
— Мы в Лесной стране, — говорила она, — лес окружает нас.
— Да, — отвечал сменивший канотье на мерлушковую шапку Мими, — вот именно окружает, глаз постоянно упирается в стену деревьев, я все время помню, что я в Финляндии. Россия — страна открытых пространств, страна горизонта, если хотите, страна пресловутой воображаемой линии, удаляющейся по мере приближения.
— А как же Сибирь? Тайга? Да и тут есть поля, луга, открытые места с большими валунами, пригорки, озера, надо свозить вас на озеро, попросить Ванду Федоровну распорядиться насчет саней, на дровнях и съездили бы, глядели бы вы на открытые пространства заозерья.
— Нечего гонять лошадей попусту, забавы ради, — отвечал Мими, — да вместо горизонта все равно будет лес, пятно вместо линии.
— Вы из-за горизонта норовите чуть не каждый вечер улизнуть, если не на залив, то на смотровую площадку Барановского или в беседку.
Мими не ответил ей, лицо его стало отчужденным, потемнело; тут из-за поворота дороги вылетела пара финских саней, одни впереди (в санях Маруся, на запятках Вышпольский), другие на некотором расстоянии (на сиденье бесенок Тойво в красном вязаном колпачке, концы белого башлычка развеваются, на полозьях смеющаяся Таня, Сестричка Сумасбродова, Луиза Фитюлькина, кричащая ямщицкое: «Пади! пади!»). Золотые волосы Маруси распущены, руки вытянуты, она своим звенящим певческим голоском, чуть завывая, репетирует одну из ролей.
Сани с Марусей и красавчиком Вышпольским следуют мимо и лихо мчат к заливу; зато Танечка не вписывается в поворот и врезается в сугроб на обочине, Тойво вылетает из саней, приземляется в обочинном сугробе и, отряхиваясь, кричит вслед улетающим вдаль Вышпольскому с Марусей: «Кворакс, кворакс, брекекекекс!» Таня отряхивает Тойво, он в снегу, в снегу ее длинная юбка, они вытаскивают сани на середину дороги. И они уносятся, удаляются, вместо бубенчика Танин смех.
— Хорошо быть молодым! Россия воюет сама с собой, террор, голод, гражданская война, мы тут, ни Россия, ни Финляндия, в заповеднике для дураков везучих сидим, а они смеются, у них театр, они влюблены.
— Я не так и стара, чтобы называть молодыми других. Неужто вы чувствуете себя стариком? Конечно, мы многое потеряли, но посмотрите вокруг: мир прекрасен.
— Я не просто стар, я дряхл. Вы многое потеряли. Я потерял все.
После паузы она сказала:
— Вон Вышпольский промчался, не может выбрать, за кем ему волочиться: за Марусей или за мной?
— Да вы с ней обе инженю, одинаковое амплуа. Знаете, я вдруг представил: век пролетит, всех нас забудут, перешеек или обрусеет, или очухонится вконец, старые дома рухнут, новые выстроят, и останутся от всего нашего житья два портрета кисти Репина: вы и Маруся Орешникова. Прекрасные образы забытой эпохи. Хотите, не хотите, а будет так.
Читать дальше