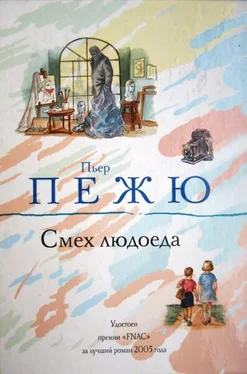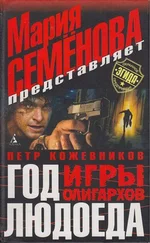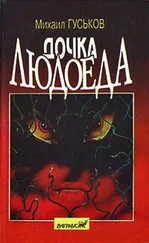С того дня, как ее привели в лазарет, она оставалась в тени Лафонтена, буквально держалась за полу его халата. Проворная, неброская, она ни на шаг от него не отходила, но никогда не мешала. Лафонтен говорил не спеша, а Клара переводила его слова раненым украинским полицаям или русским санитарам, громко, с испуганной поспешностью их выкрикивала, хмурясь и размахивая руками в знойном воздухе.
Машина подкатила к воротам. Лафонтен знает, что сейчас ему придется стряхнуть оцепенение, взять себя в руки, но он все еще перебирает в памяти те ужасы, о которых Клара рассказывала ему вечерами и ночами, между процедурами, между обходами, когда они уединялись в бывшем школьном классе. Он втискивался за парту, выложив свой блокнот на облупившуюся крышку. Она, съежившись, пристраивалась под окном, за которым медленно-медленно спускалась темнота, наступала душная ночь.
Клара непременно хотела быть все время рядом с ним. В первый вечер она даже улеглась спать на полу, в уголке, свернувшись калачиком, и уверяла, что дотянет так до рассвета. Лафонтену не спалось, и он постарался ее разговорить, а потом ночь за ночью слушал. Клара рассказывала ему свою жизнь. Торопливые, загнанные слова, и что-то детское в ее немецком языке. Об ужасах и зверствах она говорила тем же тоном, с той же внешней бесстрастностью, с какой упоминала о самых незначительных подробностях. Долгий невозмутимый кошмар…
Когда-то, рассказывала Клара, она приехала в Краманецк с отцом, немецким стариком торговцем, который разъезжал между Украиной, Польшей и Германией и продавал часы, украшения и прочее барахло на рынках, ярмарках, постоялых дворах и вообще везде, где ему только позволяли разложить свой мелкий скарб.
Наверное, это было в самом начале века, думал Лафонтен. Старик, повсюду таскавший за собой девочку, вот эту самую крохотную Клару, у которой на всем свете никого не было, кроме отца — жизнерадостного пройдохи, вруна и краснобая. По крайней мере, так Лафонтен ее понял — вернее, так ему представлялось. От старика пахло вином и табаком. А на голову всегда была нахлобучена черная шляпа. Ближе к вечеру Клара забивалась в уголок трактирного номера, потому что внизу начинали громко орать и глушить водку. Замирала, съежившись, и всматривалась в темноту, дожидаясь, пока вернется пьяный отец, а может, и не один вернется, приведет с собой какую-нибудь хохочущую толстуху.
И вот однажды утром — году, должно быть, примерно в 1910-м — отец, посреди ночи завалившийся спать одетым поперек кровати, так и не проснулся. Клара тормошила его за небритые щеки, дергала за жилет. Старик лежал с открытыми глазами и открытым ртом, как будто собирался что-то сказать. Он был мертв. А Кларе предстояло на всю свою собачью жизнь остаться в этом безвестном городишке, Краманецке. Сирота. Одичавший ребенок. Тощая замарашка, старающаяся всем угодить. Измученная, затравленная. Очень быстро она стала одинаково или почти одинаково хорошо говорить на двух языках. Потом вышла замуж за русского старика, драчливого пьяницу, но и тот вскоре умер. Его маленькая жена снова осталась сиротой, только теперь она была и сиротой, и вдовой. Вскоре начались годы революционных потрясений, Клара пошла по рукам, несколько раз рожала мертвых детей, затем был голод, о котором у нее сохранились навязчивые воспоминания.
Клара по-прежнему выглядит спокойной, но в ее голосе, в ее отсутствующем взгляде навеки запечатлены сцены, которые теперь врезаются и в память Лафонтена, ближе к рассвету склонного верить в худшее… Она рассказывает про голодомор. Восемь или десять лет назад советское государство отбирало у украинских крестьян все до последнего зернышка. Реквизиции. Безжалостные обыски. Клара рассказывает доктору обо всем, что видела. На своем сохранившемся от детства немецком она описывает истощенных, побирающихся и ворующих мальчишек, которые били тех, кто послабее, чтобы отнять у них жалкие крохи еды. Каждый сам за себя! Везде, на сотнях тысяч километров царила жестокость, так было по всей Украине. Рядом с кладбищами находили скелеты, с которых мясо было соскоблено, как будто они побывали в руках мясника. Жители соседних деревень, сбившись в шайки, подстерегали сирот, оглушали их ударами и утаскивали к себе. Одичавшие дети казались толстыми, потому что пухли от голода, но это был ложный жир, отравленная плоть. Да, Клара видела все своими глазами, здесь всем пришлось такое пережить. Голод на Украине.
Вооруженные люди, крестьяне из революционных комитетов и комсомольцы, повсюду выискивали тайники, разбирали крыши, вспарывали постели. Они не оставляли ничего. За три зернышка, зашитых за подкладку, — пуля в голову! Несомненно, за этим стоял какой-то чудовищный план. А когда существует план — с людьми не считаются. Особенно в тех случаях, когда план задуман где-то очень далеко, очень высоко.
Читать дальше