Но может, все это — заблуждение, плод непомерной гордыни, и цена ему грош. Возможно, вся моя человечность износилась, сгорела дотла, вся, до последней крошечной молекулы, расплавилась в горниле жестокой алхимии вместе с Богом Авраама, Исаака, Богом двенадцати колен Израилевых, — тогда, казалось, я видел, как Он выветривается, выдыхается, скудеет день ото дня и растворяется в высоком столбе дыма, который валил из трубы. Исчезает все: справедливость, милосердие, невидимый и не существующий в виде лика лик, а также легкий, еле уловимый, доверительный шепот, шелест голоса, который раньше я ощущал всем своим существом и не мог отличить от собственного дыхания.
Там, в лагере, среди нас был раввин. Ему сбрили бороду и лишили всех знаков сана. Ночью на нарах он бормотал слова Иова — не те, в которых звучит смирение и приятие горькой участи, но другие, слова боли и отчаяния, их произносил истерзанный страданиями человек, ропща на Создателя: «На что дан свет человеку, которого путь закрыт и которого Бог окружил мраком? Вздохи мои предупреждают хлеб мой, и стоны мои льются, как вода». Я не мог понять, твердил ли раввин эти слова во сне, или он все-таки не спал; как бы то ни было, он повторял их без конца, словно одержимый, и часто, чтобы заставить его замолчать, нам приходилось колотить его. Тогда он забивался в угол, прижимался к дощатой стене, пряча голову под мышкой, а через некоторое время с его нар доносился сдавленный, протяжный, глухой стон, что был сродни и плачу, и монотонной, тягучей молитве.
Он продержался не больше недели: то ли следуя канонам веры, то ли по отчаянной храбрости или же просто в силу привычки однажды во время работы он бросил лопату на землю и начал молиться; выстрелом из ружья конвойный уложил его на месте. Стояло лето, луга вокруг зеленели. Как знать, может, Бог того раввина нашептал ему, что его жизнь оборвется вот так, в один миг, точно срезанный колос, и приготовил ему колыбель во мраке, где не слышны крики тюремщиков.
Позвольте спросить, когда же наконец прекратится это бесстыдное надувательство, этот блеф? Когда мы снова сможем спокойно смотреть выпуск новостей и листать газету, не утыкаясь носом в фотографию, которая уже мозолит глаза? В том, что речь идет о блефе, сомневаться не приходится, и я только диву даюсь, как вы сами до сих пор этого не почуяли, если, конечно, вы не сообщники так называемого Немого Пианиста и не подняли всю эту шумиху ради рекламы своей больницы. Что ж, в последнем вы преуспели, и вот уже несколько месяцев, по-видимому, денежки текут к вам рекой, ведь простодушию и доверчивости людей нет границ, особенно когда им пудрят мозги россказнями о необычном человеке, давят на жалость, притом весьма умело и даже, наверное, искусно.
Но возможно, я напрасно вас обвиняю. Вслед за телевидением и прессой вы тоже, вероятно, попались на удочку этому молодчику без стыда и совести, который в одиночку строит нам козни, и делает это виртуозно, надо признать — настоящий ловкач, — с мастерством, достойным большого актера, правда, то и дело перебарщивает. К примеру, он мог бы обойтись без этой гримасы затравленного зверя, которую наловчился строить перед объективом фотоаппарата, — кажется, он подглядел ее в старых фильмах с Энтони Перкинсом; но, как известно, публика любит гротеск и не слишком щепетильна в выборе своих героев.
Словом, неужели вы так и не раскусили его? В таком случае, с вашего позволения, я объясню, что, собственно, происходит. Представьте себе молодого пианиста, только вчера закончившего консерваторию где-нибудь в глухой провинции — блестяще, может быть, даже с отличием. Много лет назад я сам был таким молодым пианистом, поэтому для меня не составляет труда влезть в его шкуру. Экзаменаторы рассыпаются в похвалах, он вкушает плоды славы (комплименты, панибратские похлопывания по плечу, тебя ждет блестящее будущее); потом наш новоиспеченный музыкант начинает конечно же осматриваться вокруг и вскоре обнаруживает, что он вовсе не уникальное дарование, как думал прежде. Вот именно: пареньков, подобных ему, не счесть — прилежные, талантливые, трудяги, у каждого в кармане подающий большие надежды диплом и завидные рекомендации. Однако, сами понимаете, импресарио и художественные руководители не собираются выстраиваться в очередь перед их дверью, и, чтобы свести концы с концами, юные гении вынуждены перебиваться халтурой, браться за подработки, которые не делают им чести и к тому же плохо оплачиваются. Они начинают давать уроки нерадивым оболтусам, играть в кафе и приходских залах, и это потихоньку сбивает с них спесь. Но что я говорю — «браться за подработки»? Они рыщут в поисках такой работы и, едва подвернется случай, с жадностью набрасываются на нее, но даже тут, чтобы пробиться и заработать хоть немного, приходится выдержать жесткую конкуренцию.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

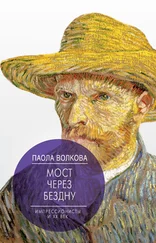







![Владислав Шпильман - Пианист [litres]](/books/396951/vladislav-shpilman-pianist-litres-thumb.webp)


