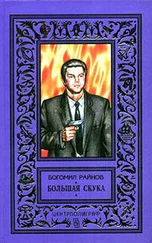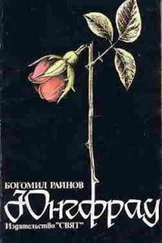– Ваш сценарий готов, – объявляю я. – Мне непонятно, чем я могу быть вам полезен.
– Как чем? Его же надо написать. – И, не дав мне возразить, он продолжает: – Не то что я совсем не могу излагать свои мысли на бумаге. Делал это не раз, но получается не блестяще. Набор мыслей. Если даешь набор слов, это почему-то никого не раздражает, но если набор мыслей, люди морщатся. К чему такое нагромождение мыслей, удивляются они. Почему отсутствует путеводная нить? Мысли! На фига им разрозненные мысли! Им подавай текст, да чтоб он был как можно более ясным и непременно в виде стандартных страниц: на каждой столько-то строк и столько-то знаков в строке…
Так что пришлось мне писать сценарий, хотя и по его подсказкам. Когда же сценарий был готов, соавтор даже не стал его смотреть.
– Меня он уже не интересует. Сейчас я думаю о другом.
Получив деньги, я отсчитал ему половину, но он покачал головой:
– Нет, столько я не возьму.
– Да тебе больше полагается, – говорю я.
– Глупости. Идеи в этом мире не оплачиваются. Платят за машинописный текст, при условии, что страницы стандартные: на каждой столько-то строк и столько-то знаков в строке.
– Если идея не выражена в письменной форме, какой от нее прок?
– Вот именно. А потому возьми себе три четверти. В конце концов после долгих увещеваний он соглашается принять от меня треть суммы. Потом говорит:
– Кстати, что касается письменной формы, ты читал книги Диогена и Антистена?
– Нет.
– И не сможешь прочитать. Потому что их не существует. А вот идеи их помнят и сегодня.
Тут-то я и сообразил, что мыслитель Петко Пеев принадлежит к древней школе циников. Но потребовалось немало времени, чтобы я понял, что с этим человеком все обстоит не так просто.
Ночь темным-темна, в неоновом свете фонаря можно увидеть не много: слева – приземистое здание таможни, справа – будку пограничного контроля, а посередине – мой старый «москвич»…
Картина, четко вырисовывающаяся в моей памяти, ясна и достоверна, словно фотография. Как и последующие кадры: движение по шоссе между двумя пограничными шлагбаумами, внезапно возникший незнакомый город, банк, призрачно-белый в свете неона бар и желтый блеск пограничных указателей.
А затем чередуются картины менее ясные, размытые – будто лента основательно стерлась от долгого употребления: стремительно несущийся «порше», три незнакомца, метнувшиеся в проход, портфель, брошенный в темные кусты…
Различны снимки, неодинакова четкость изображения. И все потому, что история, якобы произошедшая на границе, вобрала в себя две другие, действительно имевшие место. Два случая соединились, образовав правдоподобную небылицу.
Один – это моя первая и единственная поездка за рубеж», когда Главный решил отправиться в Вену на какую-то конференцию не иначе как на машине и великодушно согласился взять меня в качестве шофера и мальчика на побегушках.
Надо сказать, что зрительные мои впечатления от этой поездки вполне достоверны, и единственное, что я вымарал, – это присутствие шефа, маячившего на переднем сиденье справа от меня. Да и как не вымарать – совершенно неинтересный человек, совершенно неуместный при новом развитии событий, возникшем у меня в воображении.
Мне довелось быть свидетелем другого случая, но и он вполне достоверен, если верить газетам. Бросившееся в глаза коротенькое сообщение: бандиты ограбили какой-то австрийский банк, но были задержаны у самой границы, – задержали их не потому, что они ограбили банк, а потому, что в. документах на машину обнаружилась какая-то неточность. Гангстеры попытались бежать, завязалась перестрелка, и лишь на следующий день были обнаружены деньги в портфеле, брошенном в придорожном кустарнике. Пустяковая заметка, которую я бегло просмотрел и тут же забыл.
Но мне только казалось, что я забыл, – на самом деле где-то она все-таки задержалась в моей памяти вместе с воспоминаниями о той давнишней поездке. И вот из двух реальных историй образовалась небылица – аспирин от душевной боли, как сказал бы мой сосед-инженер, безобидное лекарство, к которому я прибегал, когда мною овладевало неукротимое желание исчезнуть, потонуть в неизвестности, провалиться в тартарары.
Это была не мечта, а некое подобие мечты. Подлинная мечта – это что-то сильное, подразумевающее напряжение волн; в моей же «мечте» можно было обнаружить всего лишь желание. В ней не ощущалось властного «я хочу» или «я жажду», в ней слышалось ленивое «хорошо бы…».
Читать дальше