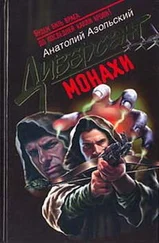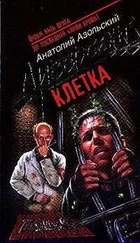Бригадир свистом подзывал бригаду, она заворачивала на зады магазина, в тень, а Родин возвращался в сарай, кивал в знак того, что все нужное сказано, и заламывал руки, ходил вдоль стены, громко шептал:
— Выдадут. Расколются и выдадут. Емельку выдали, Степана выдали. А тех, кого не выдали, предали потомки.
Воронцов ухмылялся. Травкин ждал и вспоминал Леню. Каргина арестовала однажды московская милиция, бросила его в камеру. Травкин приехал выручать Леню, выручил, и, прощаясь с сокамерниками, Леня кричал: «Люди! Будьте бдительны: я любил вас пятнадцать суток!»
В бригаде шли бурные дебаты. Наконец появлялся бригадир, сообщал результаты голосования, выдавливал фамилии тех, кто работать на указанных условиях категорически не согласен. Бригаду делили на две части, злостных отказчиков отправляли, к великому удивлению их, автобусом на 35-ю, где каждому давали комнату в гостинице и отсчитывали аванс. Соглашателей вертолетом доставляли в Алма-Ату, но, пожалуй, только в Москве начинали они догадываться, какую «подлянку» устроили им в сарае.
Лишь однажды, на восьмой или девятой бригаде, механизм не сработал, пружина не слетела с упора. Внимательно выслушав Травкина, бригадир загибать пальцы не стал. Задумался надолго. Оглядел сарай, голый стол без единой канцелярской принадлежности, внимательно рассмотрел Воронцова, принюхался к дымку «Лаки страйк».
— Понятно, — произнес он. — Незавершенка. Денег нет, народу пригнали вагон, отрапортовали о вводе, а объект так и стоит. Шла бы речь о крыше над сельским клубом, бригада моя послала бы вас... Но, как я понял, объект важного оборонного значения. Тут уж, простите, торг неуместен. Работать будем на совесть. Если надо — и в выходные. Бригада у меня сознательная, три коммуниста, остальные комсомольцы, всего семь человек. На ограничения, связанные с характером работы, заранее соглашаемся. Сколько ни заплатите — хорошо, совсем не заплатите — а с деньгами у вас, я вижу, туго, — не обидимся, всякое бывает...
Сгореть от стыда готов был Травкин... К столу подскочил Родин: рот до ушей, в голосе масло.
— Вадим Алексеевич Травкин, главный конструктор объекта, рассматривает ситуацию слишком общо, в деталях более разбираюсь я, и... — на лету он поймал брошенный Воронцовым паспорт парня, — и не все так плохо, кое-чем мы располагаем, Юрий Николаевич... Короче, я сейчас подгоняю автобус, бригаду зовите сюда и — в штаб, небольшие формальности, ведь даже в метро просто так не пускают, еще три-четыре часа — и вы уже на объекте...
Родин сам повез бригаду на 4-ю, чтоб ускорить ход канцелярской улиты, а Травкин спросил Воронцова:
— Так что же такое рабочий класс, Валентин?
— Я ж говорю: загадка...
Дней через пять вошел Травкин в дом — и замер. На ковре коленопреклоненно горбился Родин, что-то бормоча. Увидел Травкина — и распластался, лбом коснулся ковра, протянутого от окна к двери. Вадим Алексеевич расхохотался, покровительственно потрепал Родина по спине.
— Подъем, Володя!.. Никак, в мусульманство перекинулся? Полуденный намаз? Какой суре Корана посвящаешь его?
Родин выпрямился. Смотрел не на Травкина — на приоткрытую дверь.
— Я, я в ножки вам кланяюсь... Вам, который сковырнул Зыкина... Слетел Степан Никанорович, не без вашего участия, так полагаю. Приказ министра, на столе, почитайте, да вы-то уж знаете... Молчите все, так и не рассказали нам, что там с вами в Москве произошло...
Да, снят Зыкин — это прочитал Травкин. Формулировка обычная: в связи с переходом на другую работу.
— Такую гадину раздавили... — Родин будто сон вспоминал. — Такую мразь... Такой гидре снесли сразу все головы... Страшный человек. Зловонное дыхание его отравляло всю округу. За что бы ни брался он — все получалось наизнанку, вывороченно. Дай ему провести День ребенка — и дети к концу мероприятия со вздутыми животами лежали бы, бездыханные — от перекормления, от объятий, ломающих кости... Клумба у него во дворе НИИ разбита, цветочки глаз радуют, а поближе подойдешь — трупным запахом шибает!.. Гадина!.. Дисциплину начнет укреплять — и так укрепит, что самые дисциплинированные в алкоголиков превращаются, самые буйные — в тихих идиотов. За моральную чистоту так боролся, что от каждого борца разило выгребными ямами... Спасибо вам, Вадим Алексеевич, до гроба помнить буду!
Он поднялся. Потер колени. Встал перед базановским полотном. Долго смотрел на дервишей, вечных скитальцев.
— За глоток воды спасибо... Да беда вот: всего один глоток-то. Неистребим Степан Никанорович, дух его витает над 35-й площадкой, того и гляди опустится на «Долину»... Вадим Алексеевич, отпустите вы меня Христа ради. Что-то во мне надломилось, не хочу я быть на торжествах по случаю победного окончания работ. Без меня сдадите «Долину». Теперь всю страну поставят на ноги, я — спихнут. Я свое сделал...
Читать дальше