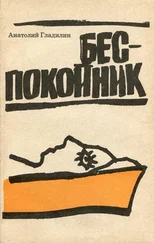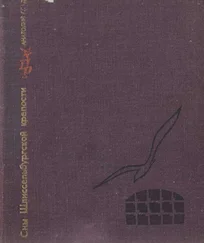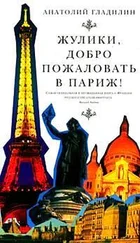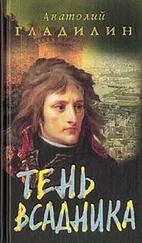Почему я не могу хоть иногда сдать свою голову в ремонт, в гарантийную мастерскую, где бы ее как следует прочистили, продули, подмазали, и вообще она полежала бы там и отдохнула? А мне бы дали напрокат другую голову, голову молотобойца Алексея Дубинина (это моя теперешняя фамилия). И я бы думал только о том, что положено думать Алексею Дубинину. Нет у нас таких пунктов проката? Но есть же люди, умеющие отдыхать? Есть люди, умеющие от всего отключаться? А я не могу. Когда это началось? И самое плохое, что моя личная жизнь вторгается во все деловые мысли и планы. И вот это меня больше всего раздражает. Я не имею права думать о моих личных семейных делах. Ко всему прочему, это ни к чему не приведет. Сколько бы я ни думал — толку никакого. Значит, я не должен думать. Значит, надо только то, что «должен», что «важно».
И подлая провокаторская мыслишка: а почему ты не имеешь на это право? Ради чего ты держишь себя в тисках? Ну ослабь, ну подумай, честно разреши себе подумать о том, что тебе хочется.
Мне снился сон наяву. Я гулял со своей дочерью. «Адядя́! Адядюка!» — дразнил я ее.
* * *
Вчера Вовка напился. В какой-то будке варят брагу. В какой, Вовка не сказал. Он получил письмо от Зины. «Вовка, ты мне нравишься», — читал он раз пятьдесят, расхаживая по будке. Развезло его здорово. Хотел идти в кино, но я его не пустил и уложил спать.
А сегодня в будке заседала народная дружина. Ее начальник, оказывается, Гриша Окунев.
Я лежал на койке и притворялся, что сплю.
Ребята славные. И все было хорошо, пока не начали обсуждать, кто же варит брагу. Постановили: выяснить.
Тут я «проснулся» и сказал, что выяснять нечего. И если сами дружинники (а Вовка дружинник, да еще борется за звание ударника коммунистического труда) пьют и молчат, то так дело не пойдет.
Вовка был смущен страшно. Начал оправдываться: дескать, это его старые кореши, и ему неудобно о них говорить, и если бы он им тогда сказал, они бы все равно его не послушали.
Прочел я им маленькую лекцию о том, что все и начинается с так называемых старых «корешей». Но выводы я им не навязывал. Пускай сами думают.
Попал в точку. Разгорелись страсти, и выводы были сделаны правильные.
Но когда все разошлись, я вижу, что Окунев на меня пыхтит и фыркает: зачем, мол, я при всех позорю будку.
— Милый мой, — отвечаю я ему, — Вовка был пьян, и ты об этом знал, но ничего ему не сказал ни вчера, ни сегодня.
— Вовка сам все понял.
— Может, да, а вдруг нет? Он увидит, что ему раз безнаказанно прошло, еще повторит. А потом вам же будут в лицо кидать: «Сами дружинники, боретесь с браговарением, а потихоньку с ними же пьете».
Крупный вышел разговор. Кончилось тем, что Гриша стал меня допрашивать. Дескать, он проницательно замечает, что я все время лезу не в свои дела. Меня еще никуда не выбрали, на прииске я без году неделя, и нет чтобы сидеть в кузнице и не высовываться. Во все я вмешиваюсь, всем интересуюсь. Без меня разберутся. Чего я лезу? Кто я такой?
— Коммунист!
Сказал — и самому неловко стало. Слишком уж красиво получилось. Такими высокими словами надо поменьше кидаться. Но уж очень он меня допек, я не выдержал.
Однако, как ни странно, на Гришу это подействовало: он сразу присмирел. Расстались мы по-хорошему.
Но потом я долго думал. Гриша прав. Заметно, что я слишком уж всем интересуюсь. К тому же моя профессия требует, чтобы я держался как можно незаметнее. Я делаю свое дело. И какого черта я вмешиваюсь во все эти мелочи жизни! Профессия. Да. Но убеждения, но… в общем, сейчас я сам себе буду читать лекцию и говорить высокие слова.
Ничего не могу с собой поделать. Взять хотя бы сегодняшнее утро. Мне никак нельзя было вылезать из той роли, которую я здесь исполняю. И кто меня тянул, и чего я полез? Доиграетесь, Алексей Иванович.
* * *
Из окружной газеты приехала корреспондентка. Валентин ее назвал «мадемуазель». Она уж очень жалко выглядит, шмыгает красным, распухшим носом (видно, на тракторе ее здорово продуло) и морщится в столовой, ковыряя вилкой сушеную картошку и биточки из консервированного мяса.
«Мадемуазель» явилась к нам в будку. Она вошла осторожно, бочком (ожидая, наверное, услышать матерщину), потом изобразила на своем лице улыбку, этакую простоту, и вдохновенно (но все-таки часто пряча нос в платок и весьма смущаясь в эти моменты — по ее убеждению корреспонденту неудобно сморкаться) начала спрашивать:
— Как живете? Как учитесь? Как работа? Как настроение?
Читать дальше