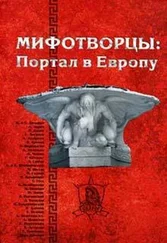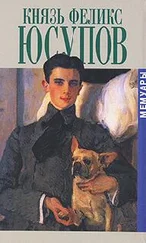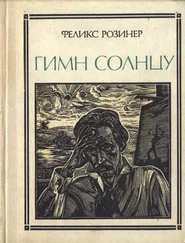Финкельмайер долго не отвечал. Низкое кресло было ему неудобно, его колени задрались едва ли не выше подбородка, но он сидел не шевелясь, горбя сутулую спину, с неподвижным взглядом, устремленным в пол. И оставался в той же позе и когда он заговорил наконец.
— Почему там написано «перевод»?.. Если рассказать только об этом, ты мало что узнаешь. А рассказывать все…
— У меня-то ночь. И бутылочку только начали, — ответил Никольский и сухо добавил: — Твое дело.
Никольский наполнил обе рюмки, взял свою, легонько звякнул о вторую, Финкельмайера, выпил и, начав жевать кружок колбасы, стал ждать.
Выпил и Финкельмайер. Он откинулся к спинке кресла, цепко обхватил подлокотники, и тут его лицо — помятое от бессонницы, с усталыми глазами, неправдоподобно огромными от темных синяков вокруг них, — вдруг осветилось детской улыбкой:
— Послушай-ка! Вот что: расскажу-ка я тебе о Черкизове!
IV
— Ты, конечно, знаешь, есть в Москве Черкизово. Дьявол его разберет, откуда это название. Я не интересовался. Есть такие книги по истории названий московских улиц. Но я в них никогда не заглядывал.
Черкизово — это Черкизово. Говорят, Москва — большая деревня; так вот, Черкизово — это местечко. Маленькое еврейское местечко посреди большой московской деревни. Ты удивляешься? Ну, понятно, сейчас-то там всюду понатыкали этих башен, коробок блочных и панельных, метро туда тянут, — хорошеет родная столица, растет в ширину и в вышину. Я разве спорю? Как-то раз поехал я к одному композитору — ему заказали написать цикл советских романсов, так он хотел, чтобы я написал слова. Живет он на Большой Черкизовской, и я еще подумал, что хорошо бы забраться туда, поглубже, в само Черкизово, неужели мне все будет там незнакомо?
Но я не стал забираться. Ты знаешь, почему? Испугался. Вот я — длинный, не такой уж молодой, живу, работаю, деньги есть, — не так чтобы мало, устроен как-никак, одет прилично (шляпа еще, помню, на мне была, интеллигентская мягкая немецкая шляпа, потом я ее где-то забыл) — и вот я такой, в шляпе и при галстуке, вдруг попадаю туда, в то самое в старое Черкизово! Привиделся мне такой кошмар: я, значит, иду, а из-за кривого забора, из подворотни, из окна — смотрят… Старуха растрепанная, седая; старик в душегрейке ватной, в ермолке; дети сопливые, сушку грызут; женщины тащатся с сумками с Преображенского рынка. Остановились. Смотрят. «Вос? Ароша? Это чей же Ароша? Сын старого Финкельмайера, кого потом посадили? Это он идет, да? Так он, я вижу, совсем большой начальник! Ароша, ты разве не узнаешь тетю Хану?»
Ароша не пошел в Черкизово. Ароша пошел к советскому композитору в его новую кооперативную квартиру — за рыбой, чтобы сочинить цикл романсов. Но из этой рыбы —ты представляешь? — ничего не вышло. Я тогда написал стихотворений десять про Черкизово и его обитателей. Все сроки прошли, композитор обматерил меня по телефону и велел отдать рыбу для другого поэта. Тот, к его счастью, был не черкизовский.
Ты, Леня, меня понял? Или еще нет? Я родился в Черкизове — родился и прожил — ох, сколько! — да полжизни, ее первую половину. Родился, мамкину титьку сосал, в штаны писал, потом по этим делам на двор уже бегал. На горшок не сажали, не было принято. Уборная в будочке во дворе, но она для взрослых, а мне, например, уже с года-полутора было интересно с крыльца — и высоко, и далеко, и красиво: солнышко светит, струйка золотом искрится, — ребенок радуется и смеется.
Уборная во дворе, а вода — так та и совсем на улице: из колонки. А вот газ был свой, в доме, на кухне, провели после войны, женщины газа боялись, потом привыкли.
Дом как дом. Не то амбар двухэтажный, не то барак: первый этаж — кирпич, второй — доски. Облезлое кривое крыльцо сгнило; у колонки всегда стоит лужа разлитой воды и понемногу сочится, течет под забором, ручейком, ручейком — и к крыльцу. Тут даже в самую жару слякоть, и уж кто-нибудь из детишек обязательно в этом месиве босый: для городского сопляка такую тепленькую глинистую жижу продавливать между пальцев голых ног — это удовольствие особенное, сладострастное. Двор был с уклоном от улицы — потому, наверно, лужа под крыльцо и подтекала, — ну и разъезжались перед ступеньками, шлепались. Ох и шлепались! Это у нас называлось «русский поклон». Свои-то привыкли, знали, куда ногу поставить, чтобы не проскользить носом в грязь, а вот если кто-то чужой забредал, — тот обязательно нашему дому кланялся.
Примчался однажды ко мне Фимка Круль — учились мы во втором или в третьем классе, — кричит: «Рошка, бежим смотреть! Васькин полковник едет! У него опель-адмирал трофейный! Бежим скорее!»
Читать дальше