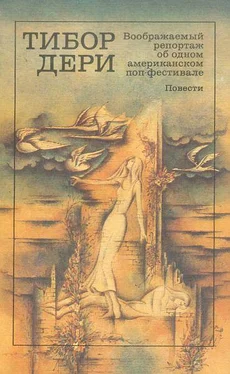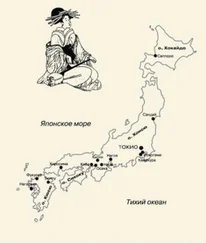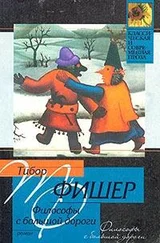К вечеру горечь поражения, если Ники и ощутила его, по-видимому, выветрилась бесследно. Ники опять вся светилась, едва миновала усталость, — так облако, быстро гонимое ветром, лишь на минуту омрачает небо и закрывает солнце, но стоит ему пролететь, как мир снова озаряется светом. Казалось, в душе собаки не осталось никакой щербинки. На закате над Чобанкой пронесся свежий весенний ливень, прибил пыль, освежил листву, разбросал на дороге веселые зеркальца луж. После дождя терпкий и сильный запах земли наполнился такими ароматами, что Эржебет Анча все медлила с возвращением в город. Заходившее за грозовыми тучами солнце окрасило небо в кровавый цвет и, красными снопами выбрасывая лучи в просветы туч, зажгло над Пилишем ласковые ярмарочные огоньки, они вспыхивали на миг и тут же гасли. Небо за Надькевеем было красное и растерзанное, как поле битвы под Воронежем.
В коляске мотоцикла Ники тотчас уснула. Смертельно усталая, недвижимая, счастливая, она спала на коленях хозяйки, подвернув под голову одно ухо, другое же наивно откинув. Изредка она громко всхрапывала во сне и не проснулась даже в Будакаласе от лая увязавшихся за мотоциклом местных собак. На площади Мари Ясаи она мигом выскочила из коляски, зевнула во всю пасть и, не задерживаясь, вбежала в парадное.
Эржебет Анча еще в Чобанке решила, что нынешней же весной пустит Ники на случку. Собаку и так-то пришлось лишить буквально всего, что требовала ее природа, но лишать еще и права на материнство нельзя. Жена инженера надеялась, что щенки вернут Ники преждевременно утраченную молодость.
* * *
Но до этого уже не дошло, потому что вскоре после экскурсии в Чобанку собака занемогла. Как-то вечером на набережной она остановилась в самый разгар игры с камнем, словно внезапно ею наскучив. Не добежав до брошенного камня, она вдруг замедлила бег, в растерянности постояла, тупо глядя перед собой, затем повернулась и, свесив хвост, поплелась к хозяйке. В тот день она отказалась от ужина, а когда зажгли свет, спряталась за стоявшей в углу корзинкой для бумаг, в самом темном закоулке комнаты.
Эржебет взяла ее на колени и осмотрела лапы, когти: не поранилась ли о какой-нибудь осколок стекла, бегая по набережной. Она знала, что ее Ники недотрога и плакса, малейшая физическая боль для нее смертельная обида, так что ее жалобы не следует принимать всерьез. Эржебет вспомнила, какой Ники была безутешной, когда ее укусил шмель, — впору было подумать, что он покусился на саму жизнь ее. Издавая отчаянные вопли, Ники удалилась в угол под стул, затем, словно и этого одиночества было мало, чтобы пережить укус шмеля, забилась под кровать, окутав свое горе могильной тишиной. Лишь несколько часов спустя удалось выманить ее оттуда, но и тогда она вылезла с таким оскорбленным видом, словно всю вселенную винила в своих мучениях. Выражение ее морды напоминало вид оскорбленной в своих чувствах старой девы, которой отплатили черной неблагодарностью за все ее благодеяния; Ники легла на спину, вытянула к хозяйке пострадавшую лапу, закрыла глаза: не оставалось сомнения в том, что она раз и навсегда покончила счеты с миром, распрощалась с собственной жизнью.
Но на этот раз никаких внешних травм Эржебет не обнаружила. Ники и утром встала унылая, к пище не притронулась. Эржебет заметила, что она то и дело облизывает нос: собака, по-видимому, простудилась. Она даже покашляла несколько раз тем тихим, робким, покорным кашлем, каким скромные люди скрывают свои хвори и вместе с тем дают о них знать; каждый раз, покашляв, она, понурясь и опустив уши, тупо смотрела перед собой, как человек, не понимающий, что с ним происходит. Несколько раз она еще чихнула, и это было для Эржебет особенно мучительно, ибо поразительно напоминало чихание человека, даже больше — сильно простуженного ребенка. Эржебет разломила надвое таблетку аспирина и, раскрыв пасть, сунула одну половинку ей прямо в горло. Оскорбленная Ники сбежала от нее под кровать. Но на третий день с помощью еще двух порций аспирина кашель у нее прошел, нос стал прохладнее.
Больное животное трогает нас больше, чем больной человек, ибо оно не просит и не приемлет помощи. Чтобы поправиться, удаляется не в больницу — просто уходит в себя. Эржебет узнала о болезни Ники, вернее, о том, что на этот раз речь идет не об укусе шмеля, по ее молчанию. Собака целыми днями не подавала голоса; даже соседка заметила и как-то постучалась, спросила, что с Ники — не потерялась ли, а может, отдали кому. Ники молчком лежала на своей подстилке, почти не прислушивалась под вечер к приходу соседа, разве что приподымала голову, узнав знакомые шаги, устремляла медленный взгляд на дверь, отделявшую ее от передней, и снова роняла голову на подстилку. Утром и в полдень хозяйке приходилось по нескольку раз звать ее на прогулку, пока наконец она лениво, скучно не подымалась со своего места и, дрожа всем телом, молча направлялась к двери.
Читать дальше