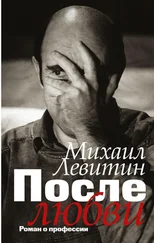Были ли за всем этим деньги? Несомненно. Но только ли они? Нет, было вечное мальчишество, желание покуражиться и обвести вокруг пальца его, генерала, а этого он уже не прощал.
Старик же сам себя называл гением, другие называли его гением тоже, а, по-моему, не гений он, а стихия, больше ничего. А вдруг стихия и есть гений?
Здесь начиналась мистика, а это уже было по другому ведомству, туда генерал не вступал.
— Кто вы такой? — спрашивал он старика.
— Я стакан, которым забивают гвозди, — отвечал тот.
— Зачем вам все это нужно?
— Мне ничего не нужно — нужно вам.
— Славы ищете?
На этот вопрос старик отвечал таким презрительным взглядом, что генерал отводил глаза. «Вы мне надоели, генерал, ох, до чего же вы мне надоели, случайный человек, пристаете с глобальными вопросами, да если хотите, нам судьбой даже случайной встречи не предназначалось, даже в трамвае, а тут сидим, двадцать лет сидим, только я иногда после наших бесед один сижу, пока вы на свободе разгуливаете. Ну и как, совесть не мучает вас? Или рады, что освободились на время? Ну а как истина, в результате моей отсидки напали на что-нибудь? Зачем вы, зачем я, например? То-то, ваше превосходительство, кто вступил на тропу размышлений — погибнет, надо действовать, действовать. Действовать тем, кто бежит, и тем, кто догоняет. Надо бежать, проклиная и виня друг друга. Удивительно! Убийца всегда возмущается тем, кто хочет догнать его и убить, догнавший и убивший проклинает потом убийцу. И во всем виноват каждый: и преследуемый и преследователь, только один считает себя вправе действовать, потому что его в спину толкает государство, другой же действует по наитию. Защищать и оправдывать можно только детей, товарищ генерал, взрослые защиты недостойны».
Певец успокоился, взял верную ноту, начал.
4
Он ждал Лизоньку на углу у института художеств, он пришел раньше, за сорок минут, и вот уже четверо сумасшедших подходили к нему и задавали разные вопросы. Чем-то он привлекал безумцев, они слетались на него как на мед. Всему виной живописный его вид. Выглядел он как патриарх безумцев. Он мог отсортировать их, как крысолов, но тогда ему пришлось бы увести за собой целый город. Москва была нездорова. Какое-то тупое равнодушие на лицах, привычка к несчастью. Он никогда не сравнивал настоящее с прошлым, не говорил: «А вот в моей молодости…»
И в его молодости без него было мало хорошего, и в его московской молодости было исключение с последнего курса института и первый срок, условный. Сразу же после суда он забыл, за что его судили, такие глупости не интересовали старика никогда. Людской суд не пугал его, но он искал житейского вдохновения, всего, что мудрецы называют суетой, он любил, когда его окружают, жужжа, милые пустяки: радуются покупкам, развлекают детей, украдкой целуются, украдкой воруют, размахивают бессмысленно руками, перекликаются, шуршат. Он любил суету как свидетельство неумирания жизни.
Москва всегда была суетлива, и вот в этот приезд ему показалось, что суеты стало гораздо меньше. Конечно, он еще успеет нарушить, поднять базар посреди города из-за какого-нибудь пустяка, забрести туда, куда посторонним забредать не полагается, устроить автомобильную пробку, изображая темного неотесанного провинциала, не там перешедшего улицу Горького, они станут тыкать в него пальцем, засвистит милиционер, все оживятся, а он будет стоять, жалкий, потерянный, и торжествующе слушать, как наконец-то они вышли из себя, проклятые рабы, умеющие только оскорблять друг друга. За удовольствие нарушить старик готов был платить. Он стоял и думал, что случилось бы с миром, если бы его, старика, не стало.
…Да, я пропал, да, я пропал навеки-и-и! И густая ария Каварадосси крутила голову такими восторженными мыслями, такими неисполнимыми делами, что он слегка прикрыл глаза крылом.
А менее патетично не можешь? Я все могу, но не хочу. Так, значит, есть великая любовь! Она клубится от тебя на расстоянии, не хочет знать, что ты не виноват. Так вот какая ты, великая любовь, а я-то думал, что ты умерла вместе с пафосом. Я похоронил Пафос и эту профурсетку Патетику и ушел.
…Всем, кто меня найдет, — награда. И хлынули лавиной с гор. Это ведь я пропал, я. А награда ждала посреди комнаты, на стуле, в огромной океанской раковине розовый котенок, полуслепой и квелый. Это рождение Бога, пока еще слепого, но погладьте, и вот он таращит глазенки, пытается провернуть буравчики, и взгляд его принесет вам счастье.
Читать дальше







![Михаил Левитин - После любви. Роман о профессии [сборник]](/books/431108/mihail-levitin-posle-lyubvi-roman-o-professii-sbo-thumb.webp)