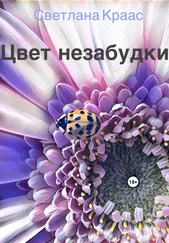внешнего облика, что даже не замечал их на себе.
Хотя я снял бы с сейчас с себя все это великолепие, сжег все свои картины и пошел бы попрошайничать к
церкви -- если бы только это помогло маме.
Но я знал взрослым умом, что ничего не поможет.
26
Вернувшись ночью, я тихо прокрался в свою комнату и запер за собой дверь.
Я не стал зажигать света.
Просто сел верхом на стул, обняв его спинку и прижавшись щекой к холодной равнодушной поверхности.
И только теперь из меня хлынули слезы.
Они копились, верно целый день.
Потому что полились потоком, которого не ожидал даже я.
Я сидел, тупо уткнувшись лбом в безразличную спинку и плакал.
С перерывами и короткими промежутками забытья -- всю ночь до утра.
Я оплакивал маму.
Странное дело, она была еще жива. И прислушавшись, я даже слышал временами кашель, доносившийся
из ее спальни.
Но я оплакивал ее уже как мертвую.
Потому что мне ли, познавшему мистические тайны восточных верований, было не понимать, что все это
означает конец. Что болезнь есть пущенная бомба с часовым механизмом. Которую нельзя остановить или
вынуть.
Конечно, если верить моим учениям, маме предстояло вернуться на землю в другом обличье. Но как я
узнаю ее среди тысяч явлений окружающего мира? И, кроме того, мама оставалась христианкой --
действовала ли на нее возможность обновления жизни?
Впрочем, об этом я не думал тогда. Мелькнули какие-то обрывки фантастических мыслей, и тут же
исчезли.
Потому что неподалеку от меня находился приговоренный к смерти человек. Мой единственный на свете
человек. Моя мама.
Я осознавал это и не мог ничего поделать с фактом.
Поэтому я оплакивал ее, давя рыдания -- чтобы не услышала через стенки дура сестра и не пришла
выяснять, что со мною.
И... И оплакивая еще живую маму, я оплакивал собственную жизнь.
Потому что понял со всей взрослой ясностью: я жив в нынешнем состоянии, лишь пока жива мама. Даже
не в материальном смысле, а в гораздо более глубоком, страшном и необратимом. Наша мистическая,
имманентная, иррациональная связь была столь сильна, что со смертью одного разума неизбежно должен
отказать и другой.
Ну, пусть не отказать -- но сегодняшний разговор с врачом уже подломил во мне нечто важное.
Я еще держусь, пока мама жива.
Но что будет, когда она в самом деле умрет?
Об этом было страшно даже думать.
Я знал, что потеряю единственного человека, который любит меня. И которого люблю я. Без мамы мир
останется сонмищем враждебных харь, и его останется лишь ненавидеть.
Без мамы, верившей в мое прекрасное будущее, будет поколеблена моя собственная вера в себя. Я не
представлял, как буду жить, не имея поддержки в виде самой лишь мысли о маминых ясных голубых
глазах...
Все это мрачными порывами проносилось в моем отуманенном сознании.
Когда я, сидя на неудобном стуле в своей комнате, рыдал до рассвета, оплакивая свою еще живую маму...
27
Утром я осмелился к ней заглянуть. Тщательно умыв холодной водой свое опухшее от ночных слез лицо.
Мама оставалась прежней. И в то же время открывшимся рентгеновским взглядом я уже видел черную,
шевелящуюся, словно клубок пауков, опухоль, пожирающую ее изнутри.
Словно сейчас наконец увидев давно происходившее, я заметил, что мама сильно похудела, а кожа ее
окончательно утратила белизну.
Я поцеловал ее, она погладила мои черные волосы.
Мы разговаривали так, будто ничего не происходило.
Потом она двумя руками отодвинула от себя мое лицо и внимательно посмотрела в мои глаза. Наверняка
мутные после этой невыносимой ночи.
-- Ты вчера разговаривал с врачом? -- спросила она.
Я кивнул, давя в себе комок и боясь расплакаться уже перед ней.
-- Не бойся, -- спокойно сказала она. -- Я все знаю. Все. На все воля божья.
-- Мама, сейчас, наверное, есть новые лекарства, -- без всякой уверенности сказал я.
-- На все воля божья, -- с неожиданной твердостью повторила мама.
И больше мы не возвращались к обсуждению ее болезни. Ни тогда, ни
после.
"Год, от силы два" -- звучал приговор.
Вероятно, любой нормальный человек не моем месте тут же бы переиначил свои планы.
Оставил мысль о поступлении в академию, отодвинул прогнозы на будущее.
С тем, чтобы небольшое оставшееся время провести около медленно умирающей мамы. Постараться
запечатлеть в памяти ее тающее, уходящее в неизбежность, необратимо меняющееся лицо.
Читать дальше






![Борис Шергин - Незабудки [авторский сборник]](/books/430715/boris-shergin-nezabudki-avtorskij-sbornik-thumb.webp)