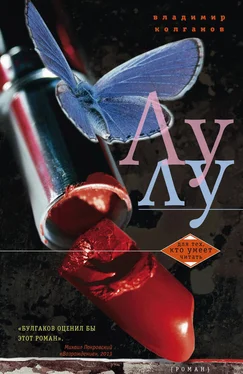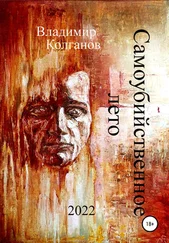Мосластых ей подавай! Уж она бы им прорычала свои бесценные «Брависсимо!» и «Браво!».
— Подруга, здесь ведь не «Бахчисарайский фонтан» и даже не ярмарка спортивных тренажеров, — отбивался я чем мог, выискивая повод, как бы мне эту сволочь напоследок побольней ужалить. Другой бы на моем месте пожалел ее, приласкал бритоголовенькую, а там, глядишь, и роман бы напечатали. Но, как известно, стоящие мысли приходят опосля, когда из разорванного в клочья моего творения и на рассказик два-три непуганых абзаца не останется. Ну и пусть!
Когда в посудную лавку вваливается слон, когда сотня разъяренных дикарей из племени оголодавших каннибалов высаживается десантом на Соборной площади, все это производит гораздо меньшие разрушения, чем вмешательство такого вот «редактора» в творческий процесс, притом что память у Клариссы была отменная, а мстительности — хоть отбавляй.
И только тут меня словно осенило. Вот ведь, прежде гонимых теперь с какой-то стати чтут. А сам-то я, почему меня к мученикам нельзя причислить? Господи! Да как же мне раньше такое в голову не приходило? Ведь я же и есть самый что ни на есть исконный мученик, к тому же пострадавший вовсе ни за что, то есть за совершенно чуждые мне идеалы.
Случилось это в незапамятные времена, когда в числе прочих симпатичных крох, усвоивших правила примерного поведения и послушания заветам старших, единственного не то что в классе, но из всей школы, выбрали меня для вручения цветов членам правительства, причем не где-нибудь, а на Мавзолее, во время первомайской демонстрации. По-взрослому гордый и упоительно счастливый сознанием близости к тем, к кому не каждому приблизиться дано, стоял я на трибуне, едва достигая подбородком до парапета, на котором покоилась приготовленная для меня огромная коробка шоколадных конфет. Каждая конфета была завернута в золотистую фольгу, притом, как выяснилось позже, содержала необыкновенно вкусную начинку — таких мы раньше и в глаза не видывали. Как дорогую реликвию показывал я потом соседям и одноклассникам ту коробку и сверху, и даже изнутри — с пустыми обертками из-под конфет. Можете сами догадаться, что мои родители не уставали докладывать всем знакомым и даже посторонним об очередных успехах своего чада, за которым «наверняка уже установлен особенный надзор, и куда уж денешься, если секретнейшим приказом предназначена чрезвычайная карьера».
Недолгое торжество сменилось отчаянием, и, что ни говорите, это было настоящее человеческое горе. Что тут поделаешь, если тот, вроде бы лысый и в пенсне, кавказского происхождения гражданин, рядом с которым я имел неосторожность обретаться на трибуне, — а уж все видели, должно быть, фотографию в журналах и газетах, — вскоре был судим и по приговору трибунала расстрелян, как злейший враг народа.
Вы и представить себе не можете, какое это было горе! Надо же такому случиться в самом начале столь много обещавшего жизненного пути. Как ни оправдывался я, что знать ничего не знал, как ни убеждали родители, что цветы я вручал вовсе не тому, что справа, а совсем наоборот, то есть тому, чья фамилия над входом в метро была в то время обозначена, однако сомнения оставались. И уже чудилось мне, что вот приходит за мной дядька в шароварах с генеральскими лампасами и, грозно щуря глаз, спрашивает: «Как же это ты, агенту империализма — и цветы?»
Но понемногу все утряслось, меня никто не вызывал, до меня никому не было никакого дела — даже после, когда того, второго, которому я тоже вроде бы вручал цветы, сместили со всех постов и обвинили в принадлежности к недопустимой антипартийной фракции. Само собой, ту злополучную коробку из-под конфет, дотоле бережно хранимую, поспешно отправили в мусоропровод.
Ну вам, быть может, это все смешно, а у меня во рту на всю последующую жизнь остался сладковато-приторный вкус тех самых шоколадных конфет, который усиливался иногда невесть от каких физиологических причин, но особенно донимал накануне событий, так или иначе имевших значение для моей карьеры.
Вот и судите теперь, кому из нас больше не повезло — тому антипартийному засранцу, который скоропостижно отправился в отставку, но дожил припеваючи до весьма почтенных лет, или же мне? Особенно если учесть, что с подачи не в меру болтливого кадровика, которому я по доверчивости при поступлении на службу рассказал про ту историю, — все как на духу! — начальство присвоило мне кодовый псевдоним Цветочница.
Но бритоголовой тетке все это было невдомек. Да, ей бы в органах служить — злости хоть отбавляй, голосок очень даже басовитый, да еще и тяжелая рука, судя по тому, как она Томочку отделала, уж в этом я теперь не сомневался. А в самом деле, может, и есть в нас что-то общее? Может, и вправду возможен некий взаимовыгодный альянс? Но только ведь недаром говорят, что в жизни сходятся противоположности, поскольку имеется вроде бы у них потребность одна другую дополнять. Однако чем же я мог пополнить коллекцию достоинств неподражаемой Клариссы? Разве что самому стать в этой коллекции одним из ценных экспонатов — скажем, изобразить некое подобие усатой бабы в питерской Кунсткамере.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу