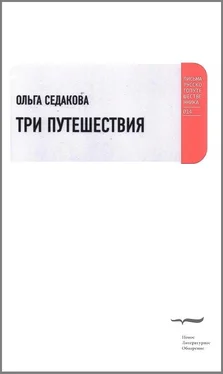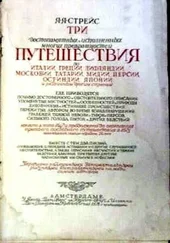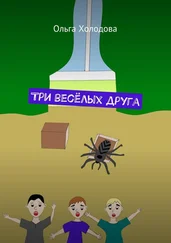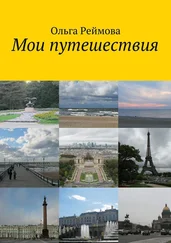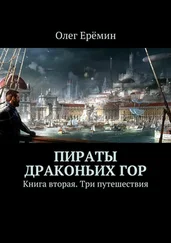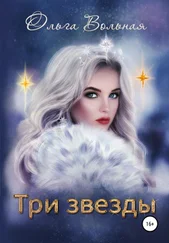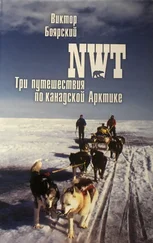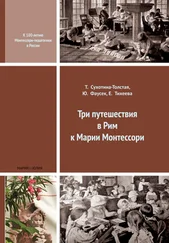— Мне дорог Аподион.
— А все-таки, почему вам не страшно делать их дело — и не жалко того, над кем вы это дело делаете? То есть меня? не жалко вам меня? не жалко?
— Вас мне не жалко. Мне себя жалко, — говорит хозяин. Он почти со слезами уходит. Не пойду вообще в этот Аподион.
И не пошла на первое отделение, посвященное 299-летию Баха.
Пока расскажу о клубе, приведшем меня и в Брянск, и во Дворец пионеров, и, наконец, к этому мемуару. Аподион — это Аполлон и Дионис вместе: вот вам и все споры о «дионисийском» и «аполлоническом». Судя по названию, по милому и рассеянному голосу его председателя, приглашавшего по телефону в Брянск, это должно было быть нормальное заведение «второй культуры» — а значит, без денег. Однако мне обещали оплатить дорогу. Загадка разрешилась на вокзале: Аподион, приобретя популярность, из клуба студентов музучилища стал подопечным Общества книголюбов, поэтому и предстояло мне через три часа выступать перед пионерами и дальше. — На заводе, знаете, в магазине… книжном, — быстро и неразборчиво говорил председатель. — У нас все так переменилось за эти месяцы… Кафка…
Итак, Аподион из «второй» культуры был переведен в первую, перенеся туда некоторые свойства «второй». У нас всё почти вверх ногами, кто был ничем, тот стал всем — и наоборот, по закону сохранения энергии. Закон этот, как я понимаю, действителен для принципиально замкнутого пространства. В нашем же есть, видно, какая-то брешь, какая-то течь — и если б кто захотел просто перевернуть все назад, бывших ничем и ставших ничем, и Гегеля опять поставить на голову — ничего хорошего бы не вышло. Что-то куда-то утекло… Может, в космическую черную дыру, может, в развивающиеся страны. Тот же обратный вектор и — увы — та же необратимость наблюдаются в наших «культурах», первой (подцензурной) и второй. Первая должна быть, в сущности, низовой, вторая желает быть высокой, аристократической, элитарной. Что же из этого выходит?
«Сыграть одну прелюдию от прелюдии и фуги, в темпе 3:1 — рафинированность, обусловленная техническими возможностями», — заметила жена моего хозяина, не вполне разделяющая общественный его энтузиазм. Таким, по ее словам, было пропущенное мной первое отделение. Вторым была я, замещая незадолго до того запрещенное чествование 100-летнего юбилея трех экспрессионистов: Кафки, Ясперса и не помню какого музыканта. Из-за Кафки, остальных в обкоме не знали. Кафка же известен там как фашист.
— Вы сказали бы им, что он еврей.
— ! Еще хуже.
Хотя жалко мне хозяина, которому меня не жалко, но более жалко Кафку и Ясперса, и я, пожалуй, рада, что их запретили. Лучше уж полное умолчание, чем коктейль из «прогрессивности, антибуржуазности» и фактических сведений, нейтрализованных этой «прогрессивностью». «Мы не отдадим им нашего Достоевского». Многие думают иначе. Может, как раз они и правы. Однако тактика этой шахматной партии, как выше было отмечено, предрешена. Вот благодаря ходу: «патриотизм и демократизм» стали издавать церковнославянские памятники — и вдруг: мало патриотизма, как показал недавний скандал с изданием житий, мало. Нужен материализм. Так-то. Нет, мне не жалко наш «угнетенный народ». Меня тошнит, как в рассказе Хармса.
Тем не менее сквозь тошноту я плету что-то со сцены про сложности стихотворного перевода. О, сказала бы я про это. В 1929 году написал про это Мандельштам, посмотрите: «Жак родился и умер». Стихотворный перевод — никто не убедит меня в другом его назначении — это наш передовой фронт борьбы с мировой и особенно отечественной культурой, в первую очередь — со стихотворством. Переводят талант Ахматовой на Багряну, переводят саму Багряну… Что, как и зачем переводят. Чего, как и зачем нельзя переводить. Нет, боюсь, с тошнотой тогда не справиться. Да и не все же исходить злобой. Публика ждет лирики. Вот есть Ронсар. Несчастная городская интеллигенция вынуждена слушать весьма незанимательное послание Пьера Ронсара Жаку Гревену, строк на двести: в нем нет ничего такого… Впрочем, произнося:
Но Господа я чту и верен Королю, —
я вздрагиваю, и вздрагивает в первом ряду председатель. И слушатель не дремлет, пишет записку: «Желательно знать, какой процент переводов у вас на религиозные темы?»
Почему, желательно знать, нервы у нас предполагаются, как у космонавтов или у табуретки? Мне кажется, когда-нибудь от такого вопроса я умру. Мне кажется, я и без вопроса умру от вида этой стены с портретом. От одной радиофразы «Несмотря на происки…», от одной красной ленты, выглянувшей сквозь дождь, «Ознаменуем трудовыми…». Сколько легких подобий смерти приходилось мне переживать: десяток букв — и тьма Эреба захлестывает все, что было, что будет, что могло бы, могло бы быть! О Боже, неужели Тебе нас не жалко!
Читать дальше