Про негра она слышала не от Бобкова, а знала из школьного урока — вот ведь многое пропускала мимо ушей, а это запомнила. А потом вычитала в старинной книге про алмазы. Ей всегда запоминалось про угнетённых. Он, негр, даже и не крал — он нашёл его, редкий алмаз, который остался в истории под названиями «Регент» и «Питт». И решил сокрыть. Невольники на рудниках в Южной Африке работали под надзором стражи. Тех, кому позволяли выйти за пределы рудника, тщательно обыскивали и вдобавок давали слабительное, чтобы ценный минерал нельзя было пронести в животе. Тогда этот негр, нашедший алмаз, разрезал ногу и укрыл камень в ране. На берегу он нашел матроса, который провел его на корабль. Но во время плавания матрос отобрал алмаз у беглеца, а самого его скинул в море. Однако захваченный силой камень не принёс матросу счастья: на вырученные за него деньги он загулял, промотался и… повесился. Негра было жаль: ведь он сопротивлялся эксплуататорскому классу. Они вообще хорошие парни, эти негры. Почти что наши. Помочь бы им только скинуть рабство и угнетение!
Она сидела за спиной Андрюши, переваливалась на холке лошади, являя собой пример победы социализма над капитализмом.
Сколько она потом себя корила, что ей пришёл на язык этот незадачливый раб, укрывший алмаз. Он просто зацепился за язык и не сходил с него весь путь: как специально, как назло!
Простилась со сменщиком у самолета. И глаза его — две весёлые стерлядки — превратились в испуганных головастиков. Стали уплывать куда-то внутрь, в тину, теряться. И всё лицо сделалось белой выемкой, легло ложбинкой на небесный скат — будто тогда уже была на нём печать.
Она шагнула — и наткнулась на другой взгляд. Лётчик Савва, совиноглазый, скорее прятал глаза: косился, склонив голову, не то, чтоб виновато, а напряженно. С мукой. Хотел заговорить. Молча потянулся за вещами, но она отстранилась. Сама занесла: не велика ноша.
Так и полетели. Он потянулся закрыть дверцу в кабину, но тоже не стал. Сидел с говорящей спиной.
Она ещё посмотрела сверху на уменьшившегося Андрюшу рядом с крохотной, как якутская деревянная кукла, лошадкой. И унеслась в радостные миры: стала думать, как после Юга заедет к Лёньке и матери — накупит там всего, яблок, и винограду этого привезёт…
— Что мне теперь, повеситься, что ли? — Савва сидел напротив.
Самолёт уже приземлился, и винты беззвучно замедляли ход.
— Кто говорит, что повеситься, — посмотрела кротко Аганя.
— А что, тогда?
— Тебе я, что ли, помеха?
— Да не ты… — вздохнул лётчик. — Ты прости, что я тогда… Но так ведь тоже нельзя: я же не нарочно!
Аганя высмотрела на его подбородке небольшие рытвинки, как от заячьих зубов, и заулыбалась с утешением: мстительная такая она оказалась, что ли?
— Летаешь, и летай. Чего тебе? — поднялась она.
— Уеду я. Уеду.
«Вольному — воля, — запоздало вспомнила она присказку бабушки, — спасённому — рай». Шла и повторяла. Хм, воля… Хм, рай… Что такое воля — Аганя понимала. А вот что такое рай? Она знала: это то, где оказывается душа человеческая после смерти, если покойный правильно жил. Никогда бы Аганя не стала забивать себе голову этими религиозными мыслями, если бы не Бобков. Она чувствовала его присутствие почти постоянно. То с небес посмотрит, то над деревьями, а то в спину взглядом упрётся. Не сумасшедшая же она? В раю ли он? В аду ли? Ну, из ада, наверное, не выпустили бы — на то он и ад! Или ни туда, ни сюда не приняли — не смогли, как и на земле, приладить его к точному месту, — душа-то и мечется здесь? Да и не мечется вовсе — летает. Спокойная. И посматривает любовно. С добром. Иногда строго. Требовательно. Но получается: если есть воля, то не будет рая? Всё не ладом. Ведь хорошо-то, в лад для человека: и воля, и рай. Поэтому, видно, и свершилась революция, чтобы построить рай на земле. Чтобы были — рай и воля.
Андрюша, казалось, шёл рядом: прямо идёт рядышком, и провожает.
Она ехала в поезде, хотела смотреть в окно, на незнакомые сёла особенно. Но мерное покачивание, стук колёс, тепло и полное безделье её усыпляли. Она терпела, но глаза смыкались, поднималась к себе на вторую полку. Пробуждалась обычно на станции, когда поезд останавливался, и в вагоне начиналось движение. Если успевала, то выскакивала на платформу, что-нибудь покупала себе. Напал какой-то бесстыдный жор. Ела и спала! И сосед по купе, старик с чапаевскими усами, нарочно громко, прихмыкивая, говорил своей старухе про молодёжь, которой ничего не интересно, забаловалась совсем, лишь бы поспать. А ей в интерес было быть забалованной — вот нравилось. И она сладко, разнежено — совсем, совсем забаловано — потягивалась. Лежала пластом, думала ни о чём. В дрёме.
Читать дальше



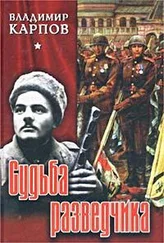
![Владимир Карпов - Признание в ненависти и любви [Рассказы и воспоминания]](/books/32616/vladimir-karpov-priznanie-v-nenavisti-i-lyubvi-ras-thumb.webp)

