Так однажды зависла и Аганя, оглядываясь и приноравливаясь шагать взад пятки. «Чпок» — кто-то вытащил её сапог, натянул на ногу. И сам замахал портянкой в воздухе. Она подала руку — напортив, пряменький и счастливый, стоял незадачливый экскаваторщик-гармонист. Она знала: звали его Андрюша.
— Ты меня не помнишь? — просиял он.
— Не пойму, ты о чём? — она подумала о случае с «эвенкийской княжной».
— Ты в нашу деревню приезжала. К родне. К Тереховым.
И в лице парня тотчас проступил мальчишка, натягивающий тетиву лука.
— Ой, ой! — запричитала Аганя. — А что ж ты молчал? Почему сразу не подошел?
— К тебе подойдешь! Как посмотришь, так мурашки по коже.
— Разве я так смотрю? — удивилась Аганя. — Я, вроде, обычно смотрю.
— Ну да, обычно. Я сколько раз: хочу подойти, похожу, похожу, и мимо. Самое интересное, подойти я к тебе давно хотел, — признался Андрюша. — А узнал тоже не сразу. Вот только: там, на вскрыше. Ты как подбежала, посмотрела так — я гляжу: та самая девчонка, которая к нам приезжала!
— Это когда ты княжну откопал? — улыбнулась Аганя.
— Да что вы все ко мне с этой княжной. Ну, примерещилось, темно же!
— А ты сам-то из деревни давно?
— Я уж училище закончил…
Вечерами и по воскресеньям вокруг Андрея и его гармони собирались люди. Приходили в чистом: сначала меж палаток и рабочими местами потянулись тропки из набросанных жердей, а потом стали появляться и дощатые тротуары. На дождь и снег была клуб-палатка, а на погожий день — деревянный настил.
Гармонист пробегался пальцами по ладам, ловил верный звук, склонял голову на бочок, уводил бусинки зрачков в сторону, в уголки глаз, словно плывущих по белому лицу двумя уточками, пел.
Если б гармошка умела
Всё говорить, не тая.
Русая девушка, в кофточке белой,
Где ж ты, ромашка моя.
Это была его любимая песня. Аганя уж не стеснялась в своём красивом белом платье и в выходные надевала его: да оно и перестало казаться невидалью, многие оделись в шёлк и крепдешин.
В девках я была несмела,
Отказать я не умела…
Подсаливал Ясное море жизнь, срывал людей в пляс, не давая надолго впадать в мечтательные вздохи. Андрюша подыгрывал. Улучал время, и отвердевшим голосом снова пел о любви.
А утром у входа
Родного завода,
Любимая девушка встретится вновь.
И скажет: «Немало
Я книг прочитала,
Но нет ещё книги, про нашу любовь».
Каждый чувствовал: ни про жизнь их, ни про любовь, какая здесь у них только и может быть, конечно, книг ещё не написано.
Скоро напала северная летняя жара, с комарьём, мошкой и солнцепёком. Земля просохла, стала клочковатой, чешуйчатой, потом как бы зашелушилась под сапогами, копытами, колёсами, а потом, будто специально к якутскому празднику встречи лета утрамбовалась в гладкую ровную площадку. Про Ысыах многие здесь слышали впервые. Но кому из мужчин не хотелось помериться силой и сноровкой? Боролись и на якутский манер — до первого касания земли, и на русский, укладывая противника на обе лопатки. Перетягивали палку и давились на руках. Но особый азарт был вокруг гири: иные намотали себе руки так, что по нескольку дней у них от плеч висели плети, потеряв всякую работоспособность. Но зато как славно услышать одобряющие возгласы и жаркое хлопанье в ладоши, заполучить взгляд той, из-за которой и пластался! И уже по другому, податливее и нежнее, словно обтекая тебя всего, она пойдёт с тобой, таким героическим, в танец: вальс ли это, танго, пляска или хоровод!
Всем праздником заправлял Андрюша, но там, где пели и танцевали, он просто верховодил. Тем более, что многие из молодых русских стремительно кружили в вальсе, отплясывали, чеканя дробь и выделывая коленца. Но уже мало кто умел водить хороводы, выстраивать «ручейки» и «терема». Ведь это был до поры сорванный со своего вековечного посева люд, из корневых лунок своих, перекати-поле, бродяги, ставшие ими от судьбы, война ли ее виной иль «кулацкая» доля. Якутский паренек еще знал, как венком сплетается ехор — он же хоровод, если по-русски. Зазывал он и в горячий, сердцем бьющийся осуохай. Заводящий здесь выдавал строку — сочинял на ходу, рассказывая о себе и о каждом в круге, в голосе его слышалась верховая скачка, — и все в лад вторили ему, то стремительно сбиваясь спаянным кольцом в центре, то разлетаясь на ширину крепко сцепленных рук. По-русски это называлось: «Танец единения душ.»
Аганя смутно, из младенческого детства, припоминала, что и русские в деревне её отца танцевали похоже. Может быть, чуть медленнее, протяжнее, но также сходились округлым подсолнухом и расходились его листами, сближались солнышком и распадались его лучами. Да и вся жизнь, которую они, искатели и строители нового, молодые энтузиасты, обретали, будто бы уже была, она её смутно, но знала, видела. Успела застать. Память все настойчивее вызволяла склад похожего минувшего: как миром ходили на поле, собирали урожай, молотили зерно, как возвращались с песнями. Как и они теперь, в строящейся новой жизни.
Читать дальше

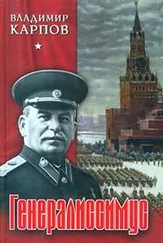
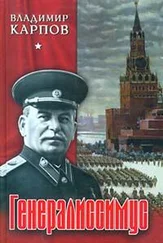
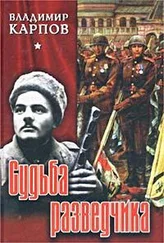
![Владимир Карпов - Признание в ненависти и любви [Рассказы и воспоминания]](/books/32616/vladimir-karpov-priznanie-v-nenavisti-i-lyubvi-ras-thumb.webp)

