Они прибывали по весне, уезжали осенью. Тягот на их шею тоже хватало. Ибо за весной, когда с треском вскрылись реки и прошла шуга, яростно пробилась и наполнила цветом жизнь упрямая северная растительность, пропели песню поднебесного зова пролетающие журавли и гуси, наступает пора остановившейся жары и поедом заедающей мошкары. Трудно было на переходах, вдали от воды. С шеи и с рук не сходила кровавая слизь. Кусок хлеба по пути ко рту превращался в живой комочек — обдувай, не обдувай. Гнул ноги терпеливый северный олень, а человек дюжил. Вновь прибывшие девчонки, хотя, может быть, были они румянее и белее, все сносили: они умели брать себя в руки. Скоро партия выходила к реке, на продуваемое место, разводил костры, дымокуры, а потом пожарища в шурфах. Мошкара, как чумное наваждение, отступала, река начинала журчать, лес шуметь, небо растворять своды… И тогда нет, нет, да и появлялось ревностное понимание: не в том разница, кто больше трудностей испытал.
Не только парни-рабочие робели перед теми, которых Аганя мысленно продолжала называть «нездешними». Геологи, начальники становились особо внимательными. Рядом с маленькой, но внутренне собранной, с упрямым, нацеленным взглядом Ларисой Попугаевой вели себя так, что и не разберешь, кто главнее. Рассказывали, что она оставила на мужа совсем маленького ребенка, приехала в Сибирь — все ради дела. А когда словно бы ниоткуда появилась та красивая женщина с гладкой косой и прошла ровной мягкой походкой будто бы в никуда, каждому улыбаясь, здороваясь, чуть склонив голову, то начальник партии ступал с ней рядом так, что шишки под ногами не хрустели. Поговаривали, что она знает несколько языков!
Но и это еще не было отличием. Не в этом оно крылось. Нездешние знали точно, что ищут.
Однажды, после перехода, когда приостановились на стоянку, рыжий Элемка вдруг заходил, пританцовывая, на блатной манер. Аня была рядом: а его при ней до ознобы брал кураж.
— Вы еще долго искать будете, а я нашел, — шепнул он и, очень независимый, пошагал дальше.
Сделал круг и снова:
— Чё у вас там, за открытие-то положено?!
— Чего нашел-то?! — не выдержала Тоня.
— Редки минералы. — Рыжий сохранял секретность.
Но терпежу не было. Приблизился он как бы невзначай к начальнику партии.
— Получите, — протянул что-то, не глядя, Рыжий.
— Что это? — не понял Бернштейн.
— Золото.
— Какое это золото?
— Како вам надо.
Начальник взял из руки проходчика «золото» и отбросил в сторону.
— Не понял? — посмотрел в сторону улетевшего в яму слитка первооткрыватель.
— Во-первых, это пирит. А во-вторых, золота здесь нет: мы не золото ищем.
Рыжий заулыбался, развел руками. Все заметили, что карманы у него крепко оттопырены. Он не растерялся и под общий смех стал показно выбрасывать камни.
— Как мы золотишком-то сорим! Направо, налево!
Аня его не отталкивала, но и не подпускала. Он ей нравился: работящий мужик. Пока на перебирал: а когда долго не перепадало ни «красенькой» ни «беленькой», Рыжий из мухаморов умел варить какую-то дурь — сома, называлась. Ее, говорил, древние воины пили, и в бой шли — откуда уж он это знал? Выпил, и давай буровить! Тут он тебе и воевал, и флаг на Рейхстаге раньше Егорова и Кантарии водрузил, но с другой стороны, с невидной, промашка, так сказать, маленько вышла! И по Чуйскому тракту до Монгольской границы на полуторке он ходил:
Есть по Чуйскому тракту дорога,
Много ездят по ней шоферов,
Но был самый отчаянный парень,
Звали Колька его Снегирев.
Как ни хотелось ему не раскрывать секрета, но тот самый отчаянный Колька Снегирев — он и есть! Нельзя же было его, как на самом деле назвать: Элем — Энгельс, Ленин, Маркс. И это у него случилась такая жгучая пламенная любовь с девушкой Раей, и это его трехтонная «Эмка» и ее «Форд» неслись пулями по тракту и вместе угодили по откос. Только ему суждено было выжить — и тяжко теперь влачить эту жизнь, так тяжко, что лучше бы и не родиться! А сел? За то и сел — за разбитое общественное имущество.
Но в другой раз он оказывался в прошлом моряком:
Моряки своих подруг не забывают…
Рвалось из самой Элемовой груди. Ну и посадили-то его, естественно, за любовь, за девушку, которую защитил он на берегу. Подрался с оборванцем. И вот уж когда оборванец на земле с кровавой раной лежал, в нем он брата родного узнал. Но эту песню многие знали.
— Там у них вроде наоборот было, — напоминали ему, — в песне-то: оборванец матроса порешил.
Читать дальше



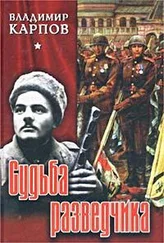
![Владимир Карпов - Признание в ненависти и любви [Рассказы и воспоминания]](/books/32616/vladimir-karpov-priznanie-v-nenavisti-i-lyubvi-ras-thumb.webp)

