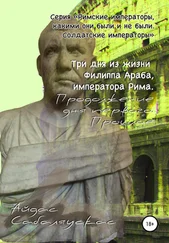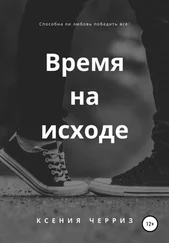Ну, а как обстоит дело с главой другой семьи хирургом Наримантасом, другом школьных и институтских лет Казюкенаса? Да, и тут были и страхи — детское ощущение того «ночного хаоса», который шевелится под поверхностью дневной жизни, были и столкновения с отцом — сельский ветеринар-ригорист, до сих пор «читающий с лупой Маяковского» по мнению сына, «любит животных больше, чем людей», и отрицает самое существование каких-либо сложностей. Но унижений, чувства «отщепенства» его сын не знает. И все же детство, то «отцовское», что было в нем заложено, дало ему не только хорошее — скромность, чувство ответственности перед своим делом, иммунитет против вещной болезни и погони за внешним успехом. Потребность, говоря фигурально, «читать с лупой Маяковского» (в этой отцовской привычке упрекает его один из его товарищей-врачей), стоический ригоризм порою мешает ему отделить наносное от глубинного. Так, он теряет связь с единственным сыном, за дешевым скепсисом, метаниями, бравадой которого он не видит беззащитности, юношеской беспощадности, любви к отцу. Не видит он (или не хочет видеть?) и того, что все те попытки ложного самоутверждения, которые делает Ригас, идут и от неправильности семьи, что к ложным, «выдуманным» попыткам самоутверждения толкает сына «материнское».
Наримантас по застенчивости дал Казюкенасу увести у себя из-под носа Настазию — свою первую, сильную, робкую любовь. А его «взяла с бою» девятнадцатилетняя ученица театральной студии, которую он оперировал по поводу аппендицита. Она «выдумала» облик мужа-хирурга, стремясь «вылепить» из него гения, великого человека. И разочаровалась в нем, когда он отказался быть гением и реформатором. Она все двадцать с лишним лет их брака выдумывала себя, пытаясь стать актрисой, кинорежиссером, работницей на производстве, воспитательницей молодых звезд и т. д., терпя всюду крах от сочетания неуемной фантазии с полной бездарностью. «Выдумывала» она и сына (началось это сразу — с придумывания имени), затем она «засунула» его в художественный вуз, а когда он сбежал оттуда, всячески поощряла его попытки заняться литературой. Впрочем, дома она бывает мало, и Ригас растет «душевно беспризорным» потому что семья не смогла и не сумела дать ему ключ к большому делу и серьезной жизни, помочь ему распутать ту сеть «настоящего» и «ненастоящего», в которой юноша запутался. За свои поступки человек, конечно, отвечает при любых обстоятельствах. Но значение обстоятельств, вызвавших поступок, недооценивать нельзя. А обстоятельства конкретно воплощены в многообразных общественных и личных отношениях, причем даже за сугубо личным прямо или косвенно всегда стоит общественное. Нить, которая, казалось, так прочно связывала Ригаса-ребенка с отцом, порвалась не только по вине Ригаса-подростка.
Есть два способа воспринять недолжный поступок воспитуемого: один — «я не верю, чтобы ты мог это сделать», второй — «я так и знал, что ты на такое способен». Во всякой работе воспитателя — будь то отец, учитель, старший друг — необходим некий «аванс доверия», выдаваемый воспитуемому. И недолжный поступок или даже проступок умный воспитатель обязан трактовать в отношениях с воспитуемым как нечто неестественное, чужеродное для воспитуемого, для его характера, его сущности. Сам же он должен понять, что и почему произошло. Понять — не значит простить. Но понимание дает возможность предостеречь, удержать от дальнейших шагов. Этой мудрости не хватало честному, бескорыстному доктору Наримантасу, замкнувшемуся в отгороженном от всей сложной действительности понимании долга.
Те соблазны безответственности, иждивенчества, «почтения» (и одновременно отвращения!) к насилию и грубости, каким поддается Ригас, отец склонен объяснять некой имманентной порочностью сына, пробуждая в нем тем самым желание все делать назло.
Озлобленность искажает зрение подростка, заставляет его видеть в школе, вузе, в быту окружающих не основное — великие нормы жизни нашего общества, а лишь те или иные нарушения этих норм — карьеризм, стяжательство, жадность, лицемерие.
И если бы на грани отрочества и юности Ригас не почувствовал, что от него морально отказался отец, судьба его, быть может, сложилась бы по-иному и он сам не отказался бы от себя, не вынес бы себе — с юношеской беспощадностью — несправедливый приговор.
Оставшись со сложностями жизни один на один, Ригас начинает «загонять» свою жажду полета, широкого дыхания, самоутверждения в рамки капиталистического стандарта «красивой жизни», терпя крах на каждом шагу, совершая поступки, которые в нем самом вызывают внутренний протест и отвращение. И очень поздно — накануне гибели в автомобильной аварии (или самоубийства?) — он поймет, что тоже жил «мимо» своей судьбы (как и Казюкенас, с дочерью которого, — любя и не понимая, что любит, — он прижил ребенка).
Читать дальше
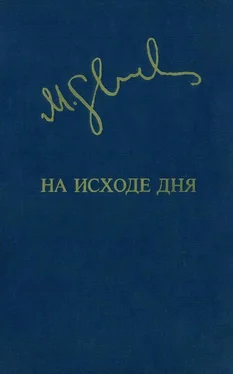
![Миколас Слуцкис - Волшебная чернильница [Повесть о необыкновенных приключениях и размышлениях Колобка и Колышка]](/books/33933/mikolas-sluckis-volshebnaya-chernilnica-povest-o-n-thumb.webp)