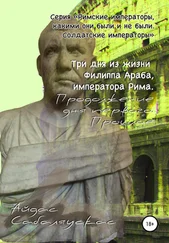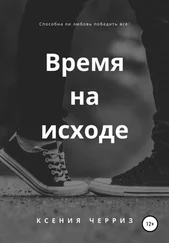Понимаете, виноватым себя почувствовал — не сумел чего-то дать сыну. Ведь другие-то дают. Не было у меня намерений меняться, идти по стопам этих «других», но счастливее я не стал… Уже в седьмом был мой Ригас по-взрослому прозорлив. Что у него теперь в голове? Чего через час захочет? А завтра? Проросли в нем семена, занесённые ветрами времени. Жена свято верила, что все это — шипы таланта. Талант, дескать, не терпит серости, уравниловки, причесанной добродетели… Вот я и самоустранился, оправдывал себя работой, больными… Как вы думаете, доктор, Ригас на самом деле избежал беды? До сих пор ему везло… Даже пятнадцати суток не получал еще… Извините, коллега, задержал вас.
— У меня, доктор, нет семьи, я плохой советчик. Вот Жардас утешил бы. Он сказал бы, что малыш ни в чем не виноват, объяснил бы, что, приспособившись к жизни в детстве, меньше получаешь горьких сюрпризов в зрелые годы, когда позвоночник уже не столь гибок. Это во-первых. А во-вторых, разве врачи обязаны становиться алкоголиками, выдувая весь коньяк, которым потчуют их благодарные пациенты? Вокруг и не такие дела творятся, разные яцкусы грабежом средь бела дня занимаются, и ни стыда у них, ни совести. При чем же здесь бедняга врач, которого дергает за полу одноклассник Яцкуса-младшего?
— Все, все с ума сошли… И вы тоже!
В палате у наркозного аппарата — сейчас его использовали для реанимации — дежурила красивая немолодая женщина-анестезиолог с гибкими ухоженными руками. В ее присутствии агония казалась менее безобразной и отталкивающей, хотя электрические мехи резко вздымали грудную клетку умирающего, терзали его трахеи и грубо, словно уже неживому, раскрывали рот.
— Как больной?
Слабая, беспомощная улыбка осветила на миг лицо женщины. Такой улыбкой отвечала она всем, кто интересовался Шаблинскасом, а их становилось все больше и больше, как будто счеты с жизнью заканчивала известная личность или фокусник, обещавший перед уходом в иной мир раскрыть сундучок своих секретов, и анестезиологу, сутки уже не отходившей от постели больного, казалось, что сильнее всего утомила ее эта улыбка, а не безнадежное состояние Шаблинскаса.
— Идите-ка вздремните. Я подежурю. — Наримантас был благодарен коллеге за печальное спокойствие — как иначе назовешь чувство, примиряющее врача с проводами человека в небытие.
— Спасибо, доктор. — И, удивляясь своему любопытству, вдруг спросила: — Больной Казюкенас… он что, знаком с Шаблинскасом?
— А в чем дело?
— Да рвался в палату. Я, конечно, не пустила. В дверях постоял.
Вновь возродив в душе образ Айсте, Казюкенас перестал было думать о многом другом, выкинул из головы и Шаблинскаса. Как ни странно, Наримантас оправдывал такое его самоустранение, а если порой это огорчало, то терзался тайком, словно из-за собственной, только недавно открывшейся ему ограниченности.
— Как вам показалось, доктор, понял он?.. — спросил Наримантас и почувствовал, что напрасно задал этот вопрос. Аппарат, спасавший множество жизней, пугал больных, казался им погребальной колымагой, с шумом и грохотом увозящей человека туда, куда в былые времена при соборовании провожало его уютное потрескивание свечей. Не подумать об этом Казюкенас не мог, но кто знает, что испытывал он в душе — горевал или равнодушно прощался с собратом по судьбе? Спросить бы, зачем притащился сюда, держась за стенки: проститься или окончательно отделаться от воображаемого двойника?
Не задерживая больше анестезиолога, Наримантас внимательно вглядывался в умирающего. Аппарат навязывал его организму упорядоченный ритм вдохов-выдохов, никак не согласующийся с его внутренним ритмом — сбивчивым, затухающим, свидетельствующим о близком конце. Хотя в изуродованном аварией и операциями теле, пусть с перебоями, еще билось сердце, его удары то бешено гнались друг за другом, то, споткнувшись, замирали, пока не возвращались медленно, словно отыскивая тропу в дремучей, непроходимой чащобе. Не надеясь уже выиграть битву за жизнь, лишь бы успеть еще разок-другой выплеснуть, как из гаснущего вулкана, струйку магмы — затухающую мысль — это неустанное сердце упрямо снабжало кровью маленький участочек мозговой коры, где застряла страшная по своей бессмысленности забота о чужих, взятых и невозвращенных деньгах. Неизменно сосредоточенное, тревожное лицо больного, даже искаженное введенной в рот трубкой, продолжало свидетельствовать об этой заботе, явно связанной с куда большим, быть может, до конца им самим не осознанным беспокойством. Даже ритмичные всхлипы аппарата как бы подтверждали это беспокойство. Если бы трубка с дыхательной смесью не мешала Шаблинскасу, он, казалось, наконец-то все сказал бы… Человек не соглашался исчезнуть невыслушанным, словно и на самом деле была у него осознанная забота, которой, по элементарной медицинской логике, существовать не могло, и мнимая бессмысленность его тревоги постепенно высвечивалась для Наримантаса все более ясным смыслом. Человек был обречен, но забота его, пусть им самим и другими не до конца понятая, должна была остаться здесь, среди равнодушных, многое повидавших стен, среди людей, притерпевшихся к смерти, она должна была напоминать живущим, что физическое бытие или небытие каждого из нас — не самое главное, что за этим есть что-то поважнее…
Читать дальше
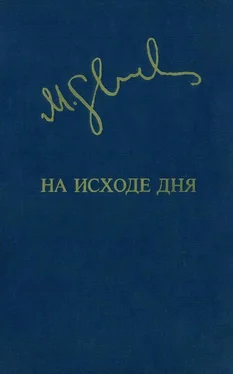
![Миколас Слуцкис - Волшебная чернильница [Повесть о необыкновенных приключениях и размышлениях Колобка и Колышка]](/books/33933/mikolas-sluckis-volshebnaya-chernilnica-povest-o-n-thumb.webp)