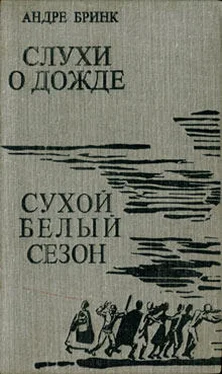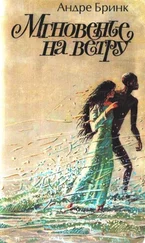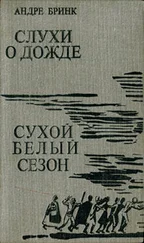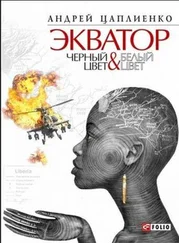А любви не имею… гулкий рокочущий голос дедушки, очки на носу, настольная лампа возле Библии на голландском, с медными застежками (теперь это украшение на дверце бара в моей гостиной), каждый слог произносится отдельно и с выражением. Когда мы с братом были маленькими, вечерняя молитва означала для нас приобщение к ритуалу взрослых, состоявшему из чтения, молитв и песнопений. Я не понимал ни слова, да и не пытался понять. Но было нечто успокаивающее и умиротворяющее в самом соприсутствии великим словам, тяжко грохотавшим над тобой и защищавшим тебя могучей стеной от звуков из мрака снаружи. Но как только нам стукнуло шесть — сперва мне, а потом Тео, — от нас потребовали повторять что-нибудь, что мы запомнили из дедушкиного чтения. С этого времени религия перестала быть для меня темной, но приятной и сделалась пугающей. Охваченные паникой, мы пытались выхватить что-нибудь из размеренного и непрерывного потока дедушкиной рецитации, ужас парализовал нас, когда выяснялось, что слово ускользнуло и придется хвататься за что-то новое. И пусть это был всего-навсего перечень имен — Адам, Сиф, Енос, Каин, Малелеил, Иаред. Понимать было не обязательно, только запоминать. Нам постоянно внушалось различие между раем и адом, а на стене столовой, за головой дедушки, висело как подтверждение и предупреждение аллегорическое изображение «Правого пути», огненный глаз господа, горящий над нами.
Первый раз, когда это случилось, дедушка обрушился на меня без предупреждения. Как всегда по воскресеньям, я сидел за столом, погрузившись в медленное течение его громкой речи, в предвосхищении теплой постели, и вдруг, все еще держа книгу открытой, он поглядел на меня поверх очков и строго спросил:
— Ну, Мартин, ты что-нибудь запомнил?
— Что, дедушка?
— Расскажи мне, что ты сегодня услышал.
Отец попробовал было вмешаться:
— Ты же не предупредил его.
— А тебя не спрашивают. Ну так как, Мартин?
Я поднял голову и увидел ровно горящую лампу и взирающий на меня сверху глаз господень.
— Ты ничего не запомнил?
Я задрожал. Впервые в жизни я ощутил, что меня вовлекают в мир взрослых, безжалостный и страшный, и вся прежняя уверенность внезапно покинула меня.
— Ты прогневил господа, Мартин.
Я судорожно сглотнул.
— Надеюсь, завтра у тебя получится лучше. А теперь помолимся.
Мы отодвинули стулья. Я прижал лицо к кожаной обивке сиденья, и на меня покатились мощные волны дедушкиной молитвы. Но в этом не было больше ничего умиротворяющего, то был голос судьи, приговаривавшего меня к вечным мукам.
На следующий вечер я почти не притронулся к еде. Едва дедушка взял Библию, как я покрылся потом, пытаясь запомнить то одну фразу, то другую, но они ускользали от меня, словно обломки Ноева ковчега, уносимые волнами. Одна за другой они шли ко дну прежде, чем я успевал схватиться за них, пока я наконец не вцепился в одну строчку и уже не выпускал ее. И когда он отложил Библию и взглянул на меня, я, запинаясь, проговорил:
— А любви не имею… дедушка.
Я был спасен. Но в ту ночь мне снились кошмары, сменявшие друг друга, я то и дело просыпался, выкрикивая эти слова, огнем горевшие в моем сознании.
И именно эта фраза среди всех моих мрачных воспоминаний всплыла у меня в голове, когда в то утро я услышал сильный, но неглубокий голос матери, как обычно поющей свой утренний псалом. А любви не имею… Слова были столь явственны, что все мертвецы сразу же вернулись ко мне: дедушка, бабушка, да и отец.
Я плохо спал из-за усталости. К тому же мне не удавалось отделаться от мыслей о Бернарде. Да и ровное, спокойное дыхание Луи мешало. Было еще темно, когда я услышал первые шаги слуг в кухне, а на дворе закричали петухи. Я повернулся на бок и попытался заснуть. До завтрака оставалось еще часа два или даже больше. Но, услышав голос матери, я понял, что спать уже не смогу.
В мрачном звучании ее голоса из темноты было нечто мучительно ликующее и одновременно глубоко утешающее — уверенностью и неуязвимостью, возвещавшими о ее способности выстоять, несмотря на болезни и одиночество, да и на самое смерть. Я слушал, опершись на подушку, и думал о матери — о том, как она многие годы поддерживала единство семьи, ни словом не выказав ни озлобления, ни упрека по поводу милого, но непрактичного образа жизни отца. Она всегда была крепкой, сильной и более уверенной в себе, чем он, но заботливо старалась держаться в тени и скрывать свое превосходство. Она брала верх над ним незаметно, хотя он и не раз повергал ее в отчаяние. Мать верховодила столь ненавязчиво, что это стало ясно лишь после отцовской смерти, когда она, как дерево, внезапно обретшее новые ветви и листья, вдруг начала расти и цвести, словно добравшись мощными корнями до глубинных, плодородных слоев почвы.
Читать дальше