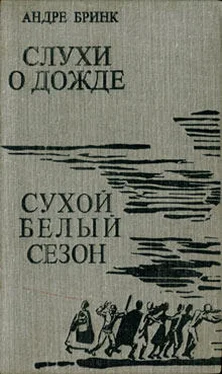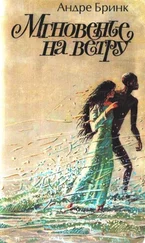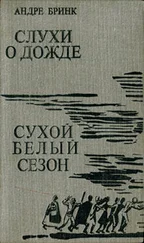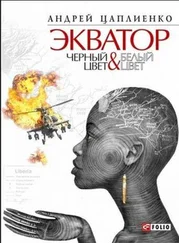Я никогда не мог толком понять, как отношусь к профессору Джону Пинару. В студенческие годы я восхищался им, что было нормальной реакцией начинающего писателя на встреченного впервые в жизни живого поэта. Но уже и тогда меня несколько отпугивала властность его натуры, а еще более подозрение, что они с женой выбрали меня в супруги для своей очкастой интеллектуальной дочери по имени Пиппа (в честь героини драматической поэмы Браунинга). Чувствуя себя польщенным постоянными приглашениями в дом великого человека, я по-прежнему настороженно относился к их подлинным мотивам и к его дочери с плоской грудью и сногсшибательным остроумием. После того как «Пиппа ушла», погибнув во время экскурсии в горы (мы все отговаривали ее от этого путешествия, но она настояла на своем: «Ты же всегда протянешь мне руку, правда, Мартин?»), профессорская чета осталась ко мне по-прежнему ласкова, а со всех стен на меня продолжала взирать бедная очкастая Пиппа.
Постепенно, становясь значительной литературной фигурой — составителем антологий, членом всевозможных жюри и комитетов, — Пинар терял свою лирическую оригинальность, якшаясь вместо муз с министрами, заседая в комиссиях и даже в комитете по делам цензуры. После его ухода из университета и переезда в Преторию пошли слухи о назначении его культурным атташе и даже о выборе в сенат. При всем при том он оставался очаровательным собеседником, любителем хорошо пожить, меценатом и радушным хозяином.
Мы с Элизой со смешанными чувствами приняли его приглашение на «дружеский ужин», приуроченный к выходу в свет его «Избранных стихотворений», в январе прошлого года.
На таких «дружеских» вечеринках профессор любил щегольнуть эксцентричной небрежностью туалета и нарядился на этот раз в алое кимоно поверх вечернего костюма, бархатный галстук и черные домашние туфли, подбитые овечьей шерстью. (Бернард называл его господином Журденом и никогда не появлялся на его вечеринках. Но как ни странно, Пинар был от него в восторге. Не исключено, что в глубине души он был гомосексуалистом.)
Похожий в своем черно-красном одеянии на священнослужителя какого-то эзотерического культа, великий человек сам распахнул нам массивную тиковую дверь своего дома в ответ на наш осторожный стук. Рядом с ним стояла Мамаша, внушительных размеров дама в сиреневом платье с кружевами, с орхидеей, трепещущей на груди, с жемчугами в ушах и на шее, вся благоухающая пудрой и духами.
— Мартин, Элиза! Как славно, что вы пришли.
Мягкой белой рукой с унизанными перстнями пальцами и с наманикюренными ногтями Пинар взял Элизу под локоть и повел через холл и коридор, увешанный гравюрами и фотографиями, первыми напоминаниями о бедной Пиппе, в залу с тусклой серебряной люстрой и фарфором за стеклянными дверцами шкафчика из Дорогого пахучего дерева. Пол был устлан двумя афганскими коврами необычайных размеров, окруженными Целым созвездием персидских ковров поменьше; глядя на стены, можно было восхищаться местными знаменитостями, портретом в натуральную величину дражайшей Пиппы, подлинным Браком, литографией Матисса, рисунками Дега, Ренуара и Энсора, а искусно подсвеченные полки в нишах демонстрировали поделки африканских резчиков по дереву и древние китайские вазы.
Гости были подобраны с неменьшей тщательностью. Председатель церковного совета доктор Кос Миннар (более известный под прозвищем Старый Козел из-за одной из своих неофициальных привычек), ректор университета, отставной судья, несколько членов парламента и литературных критиков. Чуть выпадали из этой компании издатель прогрессивной газеты Винанд Легранж и магнат Тильман Пау. Все были с женами, кроме Тильмана, явившегося с весьма сексапильной блондинкой (став миллионером, Тильман регулярно заседал в жюри, выбирающих мисс первую шлюху того-то и того-то). Выбор партнерши — единственное, что напомнило мне того Тильмана, которого я знавал в студенческие годы. В те времена он был милым, но вполне ничтожным бездельником, известным главным образом своим успехом у женщин. Он пробыл в университете восемь лет благодаря стипендии, позволявшей ему продолжать свое безответственное существование. В последующие годы он вдруг стал, по крайней мере на людях, воплощением буржуазной респектабельности. Когда он открывал какой-нибудь митинг, глядеть на это было столь же странно, как на Старого Козла во время богослужения. Он швырял сотни тысяч на благотворительность, и особенно на нужды партии, и его уже прочили в министры экономики. Единственная проблема заключалась в том, что ему предстояло избавиться от малопочтенной привычки устранять разногласия кулаками. Словом, он был из тех, кого называют «доброй душой» и «неотшлифованным алмазом».
Читать дальше