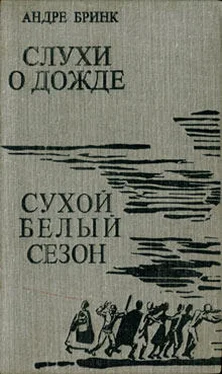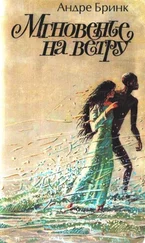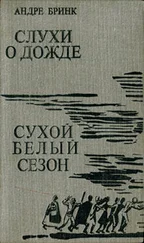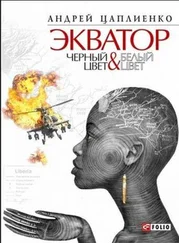— Влюбился? — спросил меня Бернард той же ночью в нашей комнате, откуда никогда не выветривался тяжелый запах восковых свечей.
— Это она влюбилась в тебя, — попытался возразить я.
— Говорю тебе, я помню ее костлявой девчонкой с цыпками и с щербатым ртом.
— Теперь-то она совсем другая! — Глаза, груди, манящие губы. — Она же красавица. Я просто глаза вытаращил.
— Это я заметил, — фыркнул он. — Да, наша старая плотина могла бы многое порассказать. Она знает обо мне больше, чем мои старики. По воскресеньям да по праздникам, когда бывали проповеди вроде сегодняшней и приезжали соседи, мне было вольготнее всего. Особенно я люблю День Дингаана, тогда я впервые узнал, с какого конца баб едят.
— А почему ты, собственно, равнодушен к Элизе? Будь я на твоем месте, я бы ей проходу не дал.
Он промолчал.
— Ну конечно, — продолжал я, борясь со стыдом и завистью, — ты избалован: любая женщина, которую ты захочешь, твоя. Верно?
— Не совсем. Все-таки не совсем. Вообще-то я никогда не против легкой интрижки, если никто не обманут. Но я прекрасно знаю, что, затей я что-нибудь с Элизой, она отнесется к этому слишком серьезно. Решит, что я влюбился и все прочее. Получилось бы нечто вроде предумышленного убийства. А на это я пойти не могу.
— Ты что, вообще не собираешься жениться?
— Ну почему же. Но я не хочу попадать под башмак слишком рано.
— Только в этом дело?
Он помолчал, а потом сказал:
— Знаешь, брак хорош для того, кто уже готов попасть в зависимость от другого. Кто готов, чтобы партнер стал как бы ключом к его собственному существованию. Но я слишком ценю то, что я есть сам по себе. И не хочу лишаться свободы или возможности выбора так рано.
— Ну, свобода выбора у тебя шире, чем у любого из наших знакомых.
Он засмеялся:
— Я говорю о другом. Не о свободе выбора женщины. Я хочу быть свободным, чтобы самому выбирать свой путь. Иметь ту свободу, которая позволяет жить, зная, что можешь обойтись без кого угодно.
— А к браку это какое имеет отношение?
— Ну, если женишься, то сразу лишишься массы возможностей. Хотя бы потому, что от тебя будет зависеть счастье другого. Зато станет слишком просто избегать любой другой ответственности, говоря: извините, но я женат, у меня семья, дети, я просто не вправе делать то-то и то-то.
— А если я скажу тебе, — вырвалось у меня, — что решил жениться на Элизе?
— Ты уверен, что хочешь жениться? Может быть, тебе просто нужна баба?
— Бернард! Как ты можешь!
— Ты юн и восторжен. В твоем возрасте многим свойственно принимать за любовь физиологические потребности.
— Я говорю серьезно.
— Эта крошка — дикарка.
— Надеюсь, я в силах укротить ее.
— Конечно, в силах. Но с ними — как с лошадьми. Объездишь самую горячую, усмиришь ее и тут-то поймешь, что тебе чего-то не хватает — может, как раз того норова, который ты из нее выбивал. А его уже не вернешь.
— Ты пессимист.
— Или реалист, — ответил он, — идеалистически настроенный реалист.
* * *
В таком же духе он ответил мне, когда во время одной из наших ежедневных прогулок по ферме — поиск разбежавшихся овец, укрепление плетня или просто променад — я спросил его о причине столь покорного следования родительской воле: почему он, убежденный атеист, разыгрывает при них эту комедию, участвует в богослужении, лишенном для него малейшего смысла.
Он отмахнулся:
— А почему бы и нет? Тебе мое отношение к этому известно. Я никогда не скрываю своего мнения от людей, способных внять доводам разума. Но зачем напрасно расстраивать тех, кому это не дано? Они мои родители, они старики, я люблю их и уважаю.
Когда речь заходила о политике, он при случае пускался с отцом в спор, но обычно отступал, если дело касалось чего-нибудь слишком серьезного. Основные споры велись вокруг вопроса об избирательном праве для цветных.
— Это чистое надувательство, — говорил Бернард. — Разве Малан не призывал цветных в тридцатые годы голосовать за националистов, говоря, что они такие же африканеры, как и мы. А теперь объявляет, что якобы вершит божью волю!
Старик бывал смущен, он не мог вникнуть в обвинения, предъявляемые сыном.
— Я признаю, что наш народ очень грешен, — сказал он как-то после вечерней молитвы (Библия еще лежала на столе, а на ней очки с золотыми дужками). — Мы, знаешь ли, вроде евреев. Я часто замечал, что, когда все идет хорошо, тут-то у нас и начинается всякое. Африканер силен в пустыне, а не в роскоши египетской.
Читать дальше