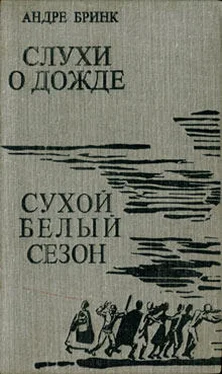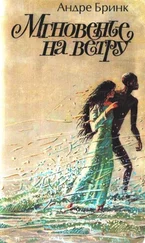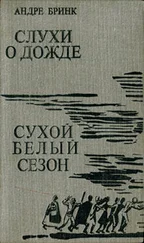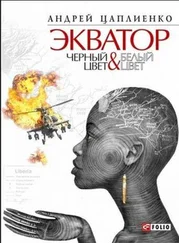В приступе беспричинного раздражения я сказал:
— Ну, ладно, если все это так грязно, бесчувственно и грешно, так почему же ты тогда приехала?
— Господи, — сказала она так тихо, что я едва расслышал, — да потому, что я одинока. Или ты не знал?
Я обнял ее за плечи и прижал к себе, понимая, что нужно ее успокоить, пока она не зашла слишком далеко. Секунду она упиралась, потом опустила голову мне на плечо. Другая женщина заплакала бы, но не эта. Она почти никогда не плакала. При мне всего один раз. Казалось, что слезы слишком мелкое выражение для ее чувств, что глубинные движения ее души подчиняются каким-то более суровым законам. Мне это даже нравилось, потому что я не выношу женских слез.
Держа ее в объятиях и лаская, я случайно смахнул ее темные очки, и мы оба рассмеялись. Пропасть между нами затянулась. Можно было ехать дальше. Мы ничего не выяснили и не решили, мы лишь заключили молчаливое соглашение, хотя бы временно к этому не возвращаться. И потому стали более терпимы друг к другу, научились особому мягкому состраданию.
За Бела-Вишта, городком с широкими пыльными улицами и старинными колониального стиля особняками, окружавшими пыльную центральную площадь, буш по обе стороны дороги стал гуще. Ощущение оторванности от мира еще более усилилось. А переехав на пароме через широкую реку, мы словно оборвали с ним последнюю связь.
Я слегка нервничал из-за надвигающейся темноты: в Мозамбике почти не бывает сумерек, ночь наступает мгновенно и внезапно. Но вот прямо перед нами в лучах заходящего солнца показалась высокая ограда кемпинга, и у ворот появился сторож в военной форме.
После того как я заполнил формуляры в маленькой конторе у ворот, сторож засеменил перед нашей машиной, показывая нам дорогу к красному коттеджу вдали, отделенному от пляжа только рядом тенистых деревьев.
Была пятница. Возле некоторых коттеджей стояли машины, на площадке играли дети, а на террасе ресторана несколько отдыхающих пили пиво. На следующий день машин прибавилось. Но в воскресенье к вечеру все уехали, ибо сезон был не каникулярный и приезжали сюда только на уикенд. В понедельник в кемпинге не осталось никого, кроме старого пенсионера в конторке у ворот, сторожа, нескольких мусорщиков, да супружеской пары, обслуживавшей ресторан — мужчины с деревянной ногой и его толстой жены, коротавшей время за вязанием.
Было так пусто, что Беа выходила иногда на пляж совершенно голая. Меня это чуть шокировало, но я ничего ей не говорил, понимая, что обижу или просто удивлю ее. Она не из тех, кто относится к своему телу по-эксгибиционистски, и если она время от времени появлялась нагишом, то лишь потому, что в тот момент ей было на это наплевать. В каком-то смысле такое поведение вполне соответствовало обстановке, ибо если позволить себе некоторый романтизм, то можно сказать, что Понто-де-Оуро был нашим маленьким раем, уголком, где мы принадлежали только друг другу, местом исследования души и первооткрытий.
Кроме необходимости обедать в ресторане, мы больше ничем не были связаны. Раз в два дня в кемпинг привозили на большом зеленом грузовике мясо и овощи, но не газеты. Новости, громко звучавшие по-португальски из ресторанного репродуктора, были нам непонятны, а приемник в нашей машине оказался не способен поймать что-нибудь на известном нам языке. Целую неделю мы буквально ничего не знали о том, что происходит в мире, и в то же время, может быть, именно неестественность подобного неведения заставляла нас ни на секунду не забывать о нем. Хотя бы из-за присутствия солдат.
За оградой кемпинга в буше располагалась рота португальских солдат. По утрам мы слышали их джипы и грузовики, с ревом отъезжавшие из лагеря и редко возвращавшиеся раньше вечера. Солдаты иногда выходили поиграть в мяч на берегу или попить пива на террасе, вокруг которой кружили стаи птиц-носорогов и голубовато-стальных скворцов. Вот и все, что мы знали о них. Но они всегда были здесь, даже уезжая. Иногда они передвигались в густых зеленых зарослях буша и по ночам, совершая свои таинственные маневры. Было и еще одно обстоятельство, из-за которого мы навсегда запомнили этих солдат: при них был маленький чернокожий мальчик. В долгом путаном монологе толстая рестораторша как-то раз попыталась объяснить нам на своем неподражаемом английском, что солдаты подобрали его год или два назад в сожженной ими деревне и с тех пор держат при себе в качестве талисмана. Он присутствовал при их играх, приносил слишком далеко залетевший мяч, а когда они возвращались в лагерь, кто-нибудь из солдат нес его на плечах, Как обезьянку. С ним, кажется, обращались хорошо. Но ни разу за все время мы не слышали его смеха и не видели даже тени улыбки на его старческом, морщинистом личике.
Читать дальше