Страдая крупным и мятым лицом, задыхаясь, хозяин уселся с помощью палки в качалку. Здесь, на островах, он владел несметными угодьями, плодороднейшими долинами, горами с мягкими очертаниями, лесистыми склонами, стадами коров, коз, баранов, двумя вулканами, водопадами, родственниками, вассалами, прихлебателями, гибкими сопливыми мальчишками, собственным флагом и флотом. Казалось, даже гавайские радуги, величиной с полнеба, тоже принадлежат ему.
Потомок свободолюбивых туземных монархов, он посвятил всю жизнь воспеванию и ренессансу родного края. В своих былинах, легендах, стихах и поэмах, романах и повестях Джон Третий состязался в патриотизме не с кем иным, как сам с собою, упорно и вдохновенно, и победителем неизменно выходил его мягкий, красивый народ:
Сипы пальм у подножья вулкана!
Скрипы сосен в моих волосах.
Как двухдолларовая бумажка,
Как прилив и отлив жаренных на вулкане подземных рыб,
Я твой, АЛОХА!
Сев в качалку, Джон Третий проникновенно посмотрел на Сисина, словно желая удостовериться, что тот ему не мерещится.
— Тоска, — односложно и вместе с тем честно признался гость, вскинув голову.
— Вот как? — поднял брови старый поэт, пораженный честностью русского человека.
Сисин молчал, грустно глядя на притихший Гонолулу. Испуганные громким выстрелом Перуна, игрушечные машины бросились врассыпную с интерстейтского фриуэя.
После вечерней прогулки отворив свой номер в гостинице «Вайкики», выстроенной в стиле полинезийского вигвама возле изумрудного океана на прибрежном бульваре Ала-Моана, он был сражен. Комната утопала в цветах. В продолговатом бамбуковом футляре он нашел пахучую гирлянду. Тут же в восторге надел на шею. Бросился к зеркалу. «Милый Джон…» Так и заснул, с цветочной гирляндой на голой российской груди.
— Вы не похожи на туриста, — пробормотал Джон Третий.
Сисин слабо махнул рукой.
— Я прилетел вчера пополудни, — сощурился он. — Взял напрокат японскую машину. Вещи оставил в гостинице. Подошел к Тихому океану. Не раздеваясь, в чем был, в кроссовках, поплыл. Отдыхающие смотрели мне вслед, но не смеялись. — Сисин замолк. — У здешних берегов вода оказалась теплой.
Джон Третий внимательно слушал.
— Когда я отплыл достаточно далеко, — продолжал Сисин, — я оглянулся.
Чем Джон Третий кормил Сисина за обедом?
Бесчисленными дарами здешнего моря?
Нет, Джон Третий не сделал этого.
Кружевными блинами с черной икрой?
Ни в коем случае. Хотя, конечно, мог накормить и так.
— Загадывайте желание! — заорал Джон Третий, когда десять слуг внесли на вертеле какую-то тушу, капающую соком и кровью. — Клянусь памятью моей досточтимой матери, вы такого еще не едали!
— Кто это? — остолбенел Сисин, пристально вглядываясь в тушу.
За обедом, поплутав некоторое время среди сомнительной коллекции модных, крикливых книжных новинок, которая их обоих не удовлетворяла своей дешевой рыночной принадлежностью, они нежданно обнаружили родство душ в беседе о двух писателях, чьи имена были им бесконечно близки.
Конечно, Сисин как русский читал Льва Толстого в оригинале; Джон Третий — всего лишь в зыбких английских переводах. Однако Джон Третий прекрасно владел биографией, так что, случалось, Евгений вынужден был помалкивать, выслушивая как откровение некоторые подробности жизни в Ясной Поляне, которую славный гавайец описывал так, словно сам был ее скромным, но созерцательным участником. Когда же, несколько все-таки уязвленный, Евгений заговорил о работах Эйхенбаума, Джон Третий вынужден был признать, что слышит о них впервые, и бурно заинтересовался генезисом «Войны и мира».
Зато Пруста и тот и другой прочли по-французски и даже по этому поводу на какое-то время, в знак уважения к французской культуре, перешли на язык создателя Свана и продолжали бы так, если бы не появление служанки-филиппинки, которая, застыв у порога столовой, от нерешительности не могла сделать ни шага. Джон Третий ласково, хотя и не без раздражения, подбодрил ее по-английски, и разговор вновь перешел на язык американской демократии.
— Тоска, — односложно и вместе с тем честно признался гость, вскинув голову.
— Вот как? — поднял брови старый поэт, пораженный честностью русского человека.
Евгений молчал, наблюдая взволнованную природу. Наблюдая взволнованную природу, Евгений невольно вспомнил о том, что перепуганная женщина выделяет, как правило, довольно резкий запах. Возможно, неприятный запах призван остановить насилие, но все-таки он недостаточно резкий, не то что говно или труп, так что природа, хотя и осуждает насилие, однако не окончательно.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
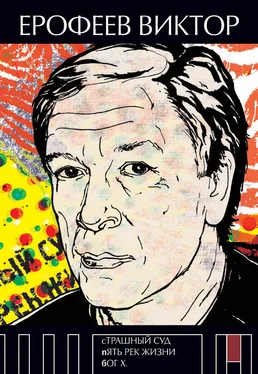






![Эрих Дэникен - Страшный суд начался [Второе пришествие богов…]](/books/427281/erih-deniken-strashnyj-sud-nachalsya-vtoroe-prishestv-thumb.webp)


