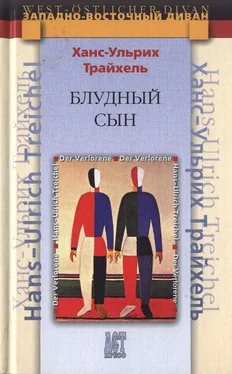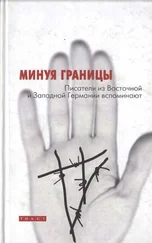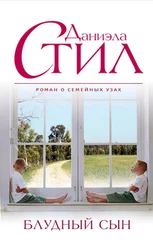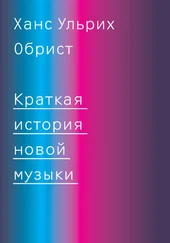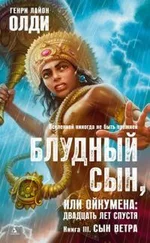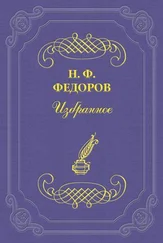В одном из интервью Трайхель рассказал, что нечто подобное произошло и с его родителями. Они тоже во время бегства на запад потеряли ребенка и потом долго и безуспешно разыскивали его через службы Красного Креста. Но мать так и не сказала ему всей правды.
О том, что его старший брат не погиб, а пропал, писатель узнал только после смерти матери, из оставшихся после нее бумаг. Среди них были и документы из различных медицинских инстанций, которые Трайхель, пройдясь по ним сатирическим пером, использовал в своей повести. «Блудный сын», таким образом, не только вариант библейской притчи, но и вариант собственной биографии писателя, удачный опыт сублимации причиненных войной душевных травм средствами иронии, сатиры и комизма, смягчающими глубину трагедии, но не позволяющими забывать о ней.
Манера повествования Трайхеля близка прозе Томаса Бернхарда или Петера Вайса: за внешне спокойным, даже несколько монотонным изложением грустно-комической семейной истории проступают скрытые в глубине текста душевные потрясения, неврозы, внутренняя неустроенность, которая особенно четко видна на фоне внешнего преуспеяния. Трайхель по-новому, свежо и интересно рассказывает о том, что, казалось бы, давно и всесторонне исследовано немецкой литературой. Он нашел свой оригинальный угол зрения на трагедию военных и послевоенных лет, свою оптику , которая позволила ему представить прошлое в неожиданном, захватывающем читателя свете.
У повести Трайхеля открытый финал. Узнав наконец, что «найденыш 2307» давно усыновлен другой семьей, мать (отец к этому времени успел умереть) решает хотя бы тайком взглянуть на предполагаемого сына. Но читатель так и не узнаёт, увидела ли она его в окне мясной лавки, так как события подаются глазами рассказчика — ее младшего сына. А он-то как раз и узнает себя в найденыше. Но возможно и другое, более вероятное толкование: мать узнала в найденыше сына, но не нашла в себе сил встретиться с ним, так как поняла, что нашедший новую семью «блудный сын» потерян для нее навсегда.
В романе «Тристан-аккорд» Трайхель, что называется, лоб в лоб сталкивает два мира — мир выходца из провинции Циммера, аспиранта-германиста с заниженной самооценкой, и мир преуспевающего, пользующегося мировой известностью композитора Бергмана. Циммер понадобился Бергману для редактирования написанной им автобиографии, и он таскает с собой робкого провинциала по городам и странам, где проходят его концерты. Резкое несоответствие характеров и отношения к жизни то и дело придает печально-ироничной прозе Трайхеля комический эффект. Комичен закомплексованный, не способный избавиться от своего провинциализма Циммер. Но комичен в своей мании величия и композитор Бергман.
Если в «Блудном сыне» объектом насмешки Трайхеля была медицинская наука, то теперь его сатирические стрелы направлены на университетское образование и современное музыкальное искусство. В жанровой структуре произведения соединены распространенные в немецкой литературе формы романа становления личности (линия Циммера) и романа о художнике (линия Бергмана). Циммер — это повзрослевший рассказчик из «Блудного сына», по-прежнему наделенный тонким чувством собственных изъянов, вестфальский Парцифаль, отправившийся на поиски своего Грааля. Но, оставив родительский дом, он заблудился в мире искусства. Критики даже осмеливались сравнивать роман Трайхеля с «Доктором Фаустусом» Томаса Манна: там и тут в центре образ великого (или мнящего себя великим) художника, там и тут основное стилевое средство — ирония и пародия. Но, разумеется, масштабы этих авторов и их произведений все же несопоставимы.
Автобиографические мотивы присутствуют и в этой книге: в магистре германистики Циммере много от самого Трайхеля, в композиторе Бергмане — от Ханса Вернера Хенце. Но, конечно же, все личное переплавляется в горниле творческого воображения, обретает характер обобщения. Дистанция между героями и их прототипами от произведения к произведению скорее увеличивается, чем сокращается.
В романе использован сквозной метафорический мотив «тристановского аккорда» — хорошо известного музыкантам и музыковедам загадочно-мрачного и в то же время томительно-прекрасного аккорда из оперы Вагнера «Тристан и Изольда». Этот завершающий повествование и внезапно обрывающийся аккорд придает финалу романа открытый характер. Читатель так и остается в неведении, кто же такой Бергман — действительно гениальный композитор или талантливый шарлатан.
Читать дальше