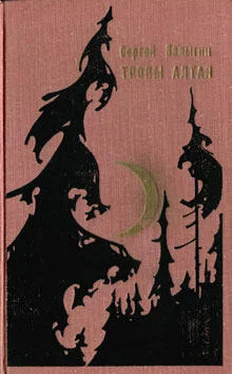Онежка не испугалась, потому что неподалеку увидела Лопарева, успела крикнуть ему: «Михаил Михай…» — и почувствовала, что он услышал этот крик.
Когда-то, она помнила, Лопарев спросил у нее, сколько в ней килограммов, засмеялся и сказал: «Утащу — как пить дать!» И с тех пор ей всегда казалось, что он действительно унесет ее куда-то. Поднимет на руки и легко-легко унесет. Ну вот, так и случилось, Онежка редко ошибалась в предчувствиях.
Но вслед за тем, потому что Онежка редко ошибалась, она сразу же вспомнила и тропинку через кладбище, по которой ходила когда-то в школу, и тот день, когда она заблудилась в тумане; вспомнила, как прикасалась к ней и на тропинке и в горах одна четырехсотая, и сразу же поняла — это снова была она… Которую подсчитывал Рязанцев, когда болела Рита. Это была она, и Онежка почувствовала себя в ее власти.
Онежка догадалась, что ее везут на машине, а потом ее раздели, и мужчина холодными руками стал делать еще больнее, чем было до сих пор.
Хотела сказать, чтобы к ней позвали женщину, Риту позвали бы, потому что Рита все-все знает, но в это время голос мужчины перебил ее. Где-то далеко голос произнес что-то о шансах, о бесполезности чего-то. Она знала, о чем голос прозвучал: «Четырехсотая…»
Тогда бы и должно было все кончиться, но потом, вскоре или спустя очень долго, вдруг случилось так, будто с нею ничего не случилось…
Так не могло быть. Она лежала в больнице на белой кровати, под потолком светила занавешенная электрическая лампочка, напротив было квадратное окно, до половины задернутое занавеской, с распахнутой форточкой. Сквозь стекла падал на кровать свет — не сильный, блеклый, а через форточку — почти яркий, с какими-то звуками и запахами. Какой-то незнакомый свет…
Все это и еще все то, что память тотчас подсказала ей: не до конца записанная в полевой дневник цифра, падающие вместе с облаками лиственницы, сильные руки Лопарева и еще чьи-то слабые, но причиняющие боль, — все говорило ей о случившемся, но она не могла противостоять ощущению, будто с нею не случилось ничего. Как могло это ощущение появиться, если здесь, рядом, было другое — была одна четырехсотая, уже покончившая с Онежкой, уже толкнувшая Онежку туда, где не было ничего? Для чего происходил этот обман?
Для того, чтобы она увидела, как это происходит. Чтобы она все кончила так, как могла кончить.
А тогда случившееся с ней в действительности снова приблизилось к ней мгновенно, и она, уже не ощущая боли, вспомнила ее. Значит, такая боль могла быть настоящей? Существующей? Такая, с которой невозможно смириться, и ничто живое с ней мириться не может?!
Все уже прошло мимо Онежки, все убереглось от этого, и только она не убереглась, только ей пришлось принять эту боль, этот ужас. Одной из всех.
Если бы кто-нибудь был сейчас рядом с нею! Ей нужен был человек, который видел бы, как она это делает, как принимает все одна!
В лесу, у костра, Рязанцев говорил ей однажды, как это сделал кто-то, какой-то человек, мужчина, ученый, показывая, что в нем еще живет и что уже нет. Она поняла, почему так можно было сделать: потому что рядом был другой, который видел, понимал, чувствовал. И она тоже должна была потребовать кого-то, — с нею рядом обязан был присутствовать человек, — потребовать громко, так, чтобы никто не имел права ей отказать. Она хотела крикнуть. Но и в этом ей было отказано. Время уходило, оно успело куда-то унести ее голос… Куда?!
Она хотела видеть кого-нибудь, но никого не видела — только воробьев на распахнутой наружу форточке. Они смотрели на нее и чирикали. Стекло под ними было яркое-яркое, словно горело, они этого не замечали. Воробей побольше, с коричневой головкой и нагрудником, бочком-бочком теснил серенькую воробьиху.
Онежка смотрела на них. Больше некому ей было прошептать: «Истод, адонис, эдельвейс… истод, адонис…»
Онежка хотела быть такой же, какой всегда была до сих пор. Как будто с нею и в самом деле ничего не случилось. Она всегда чего-то желала, а сейчас — оставаться собой. Она хотела иметь желание.
Она знала, что должна была для этого преодолеть страх, проклятия, отчаяние, что-то еще, и еще, и еще Знала, что труднее всего — это не испугаться себя, себе не изменить. И не пугалась и не изменяла…
Тень появилась на кровати… Человек? Но это уже было все равно. Онежка смотрела прямо перед собою.
Воробьи на форточке широко и молча разевали свои клювы. Она знала, что это значит, почему молча.
Вдруг воробьи вспорхнули, исчезли…
Читать дальше