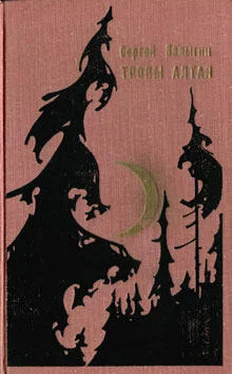— Скажи, ты хотел бы видеть меня хорошей? Очень хорошей? И очень доброй? Хотел бы?
— Конечно. Как же иначе?
— А для кого это нужно?
— Для тебя… — Он все так же серьезно и строго глядел на нее из-под рваной шляпы. — И для меня…
Какое-то недоумение появилось у него во взгляде, как в тот раз, когда в избушке лесника она нагнулась над ним и приподняла его с пола… Может быть, сейчас ей только так показалось — темно уже было, легко ошибиться в темноте.
— Это… правда?
А наверное, ей не нужно было спрашивать… Наверное, не нужно… Молча Андрей повернулся и пошел к лагерю, она — за ним. Около палаток замедлил шаг, пригрозил:
— Так вот смотри, за баловство… Понятно?
Долго-долго она не могла заснуть, лежала в палатке, а к ней доносился приглушенный разговор, который вели у костра Рязанцев и Свиридова.
Всякий раз после паузы Свиридова начинала первой и всякий раз с одних и тех же слов: «А знаешь ли, Ника…» Немного погодя снова: «А знаешь ли, Ника…»
Рите же казалось, будто этот голос заглушает другой: «…за баловство… Понятно?» И снова: «…за баловство… Понятно?»

Вершинин-старший проснулся часа в два ночи и тотчас стал вспоминать день 15 августа 1939 года. Как это было.
День тогда был ясным, солнечным, солнце одинаково щедро ласкало родильный дом и военный госпиталь. На улице, на блестящих лезвиях рельсов, стоял поезд из моторного трамвайного вагона и нескольких платформ, с этих платформ санитары сгружали раненых. Раненые были из Монголии, с Халхин-Гола.
В приемной же родильного дома неподвижно сидели несколько посетителей, пахло аптекой, а сквозь стеклянные двери, занавешенные белым, доносились непрерывающиеся, ровные голоса младенцев… Как будто они все, едва родившись, принялись за свое земное дело, а этим делом был для них назойливый и обязательный плач.
В распахнутое окно приемной, казалось, была вставлена картина с изображением ярко-красного трамвайного вагона, серых платформ, ярких простынь и бледных мужских лиц, сосредоточенно вглядывавшихся в голубое, почти безоблачное небо.
Пришла няня, взяла у Вершинина цветы, и пока он с няней говорил, на картине произошли изменения: у платформ появились санитары в поварских колпаках и с носилками… Они старались и никак не могли открыть борта платформ, суетились и не знали, куда девать носилки, без которых выглядели смешно и ненужно.
Когда няня вернулась и Вершинин прочел записку от жены о том, что все хорошо, что сын весит три килограмма четыреста пятьдесят граммов, санитары, вытянувшись цепочкой, снова деловитые и строгие, несли раненых, поднимаясь по ступеням госпиталя.
Через стеклянную дверь, откинув марлевую занавеску, няня показала Вершинину сына…
Цезарь оказался необыкновенно смуглым. Он тоже очень деловито плакал, закрыв глаза и старательно разевая ротик. Будто был обижен, что ротик очень мал для него.
Выйдя на улицу, Вершинин увидел, как трамвай толкнул пустые платформы, потом весь состав стал заворачивать за угол, заблестели на солнце рельсы, а по ступеням госпиталя санитары подняли последнего раненого, улыбавшегося растерянно и виновато, будто извиняясь за что-то перед людьми.
«Должно быть, — подумал Вершинин, — тяжелораненых госпитализируют ближе к району военных действий, а эти скоро все встанут на ноги, и никто из них не умрет…» И он пошел вслед за трамваем, который звенел уже где-то далеко впереди… «Ну вот, — размышлял он, прислушиваясь к этому звону, — смуглое существо — это мой сын. Довольно странно. И даже очень странно. Вот уже третий ребенок, а все не могу привыкнуть к тому, какими они рождаются! Кажется, и ученые тоже до сих пор не знают, что служит причиной завершения утробной жизни человека и началом родов. Знают только, что одно должно кончиться, а другое начаться…»
Вслед за этим он перестал думать, не думал больше ни о жене, ни о сыне, ни о войне, которая вдруг дохнула ему прямо в лицо, а весь поддался ощущению, возникшему в нем оттого, что на земле родился человек, что этот человек — его сын, что в какой-то сущности своей он сам вдруг изменился, потому что теперь он будет продолжен, а может быть, прерван не только своей собственной жизнью или смертью, но еще жизнью или смертью другого человека…
Не скоро еще что-то житейское прикоснулось к тому ощущению жизни, в которое он был погружен, а когда это произошло, он поспешно, даже как-то лихорадочно, стал мечтать о том, каким путешественником, каким ученым будет его младший сын, как будет он любить своего отца…
Читать дальше