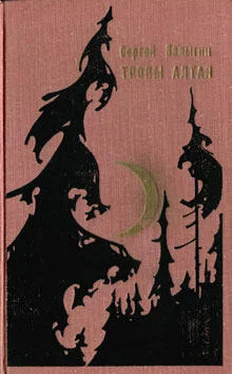Один раз на крыльцо вышла, по-прежнему оберегая свое платье, Елена Семеновна, тоже крикнула: «Витьша! Петьша!» — и тоже вручила им ведро, чтобы они вылили помои.
Потом пришел Шаров, снял рубаху и, весь белый-белый, огромный, с золотыми бородами, крикнул: «Ваньша! Полей!» Прибежал Ваньша — этот был постарше Витьши и Петьши, он стал поливать из ведра на голову и спину отца.
Немного погодя один за другим появились те два крепких парня, которые пилили пантачам рога, а позже всех пришли мальчишки, верхами загонявшие маралов в станок.
Каждый, кто приходил, даже эти мальчишки-наездники, кричал по-отцовски строго, громко, только тоненьким, петушиным голоском: «Ваньша! Полей!» И Ваньша бегал с ведром взад и вперед и поливал их с головы до пояса.
Не прошло часу, все сидели за столом в одной из комнат с полосатыми, еще не просохшими стенами.
Стол был огромный, как в солдатской столовой, ничем не покрыт, но вымыт и выскоблен, и Рязанцев сказал:
— Вот, Михаил Михайлович, по этим доскам можно сосчитать, сколько было лет деревьям, когда их спилили! Каждый слой виден!
Михаил Михайлович и в самом деле начал задумчиво подсчитывать слои вилкой, Шаров же усмехнулся и сказал:
— Ну что же, Лексей Петрович, Елена свет Семенна, знакомьте, что ли, нас с гостями! Как следует быть!
Познакомились еще раз.
— Вот вы сказали: работа у нас не из чистых, — заговорил Шаров, — а мало ли что? Здоровье делаем для людей. Лекарство. Крайне нужно оно человеку. Молодость приносит.
Потом стали считать детей.
Всего их было тринадцать — старшему двадцать пять, младшему пять. И Ермил Фокич, загибая пальцы на руке, вел счет от старших к младшим:
— Степша, Дуньша, Федьша, Маньша, Саньша, Таньша…
Но когда Рязанцев спросил, а нельзя ли вспомнить, кто и когда родился, Шаров вместо ответа крикнул:
— Мать!
Тотчас в дверях появилось полное черноглазое лицо хозяйки.
— Не призывал бы ты меня до времени, Ермил Фокич, — сказала она. — Не управились еще покуда, неказиста при гостях-то!
Рязанцев заметил, что совсем это было не обязательно — отрывать хозяйку от дела, но Шаров пожал плечами:
— Тринадцатерых родила, всех до едина вырастила — и опять же стесняться? По какой же причине — стесняться? Покажись, мать, ты на работе, не как-нибудь… Вот, глядите, хозяйка моя, Дарья Феоктистовна.
Дарья Феоктистовна вышла из дверей, улыбнулась:
— Ну что тебе, Ермил? Ах вы, мужики, мужики! Вам хотя бы кажного третьего, а то и пятого ребятенка родить, тогда бы вы накрепко умели им счет вести. Ну что тебе? Степша, значит, первый — тридцать четвертого года. Дуньша-та, вторая, погодок, то есть с тридцать пятого. Федьша, выходит, уже снова с тридцать шестого, с декабря месяца. Маньша — про эту все в доме у нас знают, та с тридцать восьмого и опять же с декабря.
Дарья Феоктистовна говорила торопливо — ее ждало дело, — но все-таки уважительно и к мужу и к гостям. Забрызганная известкой, в ситцевой косынке, в ситцевом же, в горошинку халате, перехваченном черной тесьмой, она все-таки была очень хороша — и живыми черными глазами, и без единой морщинки лицом. Сосчитав до тринадцати, поклонилась и мигом исчезла в соседней комнате, где все еще не кончились побелка и приборка.
— Ну как? — спросил Шаров, улыбнулся.
Рязанцев не знал, к чему относится вопрос: о жене Шаров спрашивал «ну как — какова?» или о ребятишках, о детях, которым наконец произвели полный подсчет.
— Здорово! — кивнул Рязанцев. — Здорово, честное слово!
И это «здорово» относилось ко всем — и к Дарье Феоктистовне, и к ее детям, и к самому Ермилу Фокичу.
Лопарев спросил:
— Слушаются вас дети, Ермил Фокич?
Алексей Петрович и Елена Семеновна переглянулись. Шаров же ответил:
— Когда как. Вот нынче, с утра… Марал, значит, вырывается бежать на Харбэй — боковые-то ворота не успели зачинить, — а он в самый раз, марал-то, на пантовку годный. Степша, значит, увидел такое, пантачу встречу кинулся. Руками его за рога и к земле гнетет, сам по коленям ногами-то, по коленям, чтобы тот, значит, пал на землю. А у них же сила великая, у пантачей, когда они страхом объяты. Они же чуют, будто это смерть. В нем все, что есть живое, все противится. Ну вот я кричу Степше: «Ума совсем лишился! А ну бросай зверя!» А Степша-то обратно гнетет его к земле. Не слушается и гнетет. Вот-то и сын. Не слушается!
— Ну и как же? Что же дальше с пантачом?
— Обошлось. Вот оба мы со Степшей живые и непокалеченные. Я тоже навалился на пантача, скрутили мы его, а отпустить-то и в самом деле боимся. Не уйдешь от его… Отпусти голову-то, он и наденет тебя на роги… Уже Федьша да Саньша — те прибегли, по ногам связали зверя…
Читать дальше