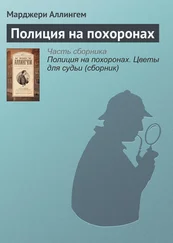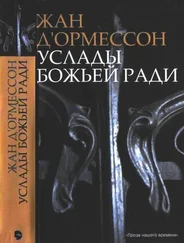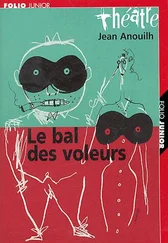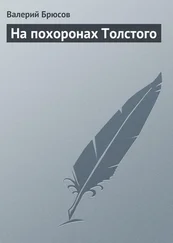Меня не оставляли мысли о Ромене. Его образы, такие разные, смешались в моем сознании. Я видел его среди снегов и на борту корабля; в автомобиле, который он водил очень быстро и уверенно; на террасе кафе, где он мог крепко выпить и закурить сигару, которую почти тут же бросал; в каком-нибудь незначительном месте, которое он тут же преображал своей энергией и весельем: помню, мы с ним прекрасно провели время в скучнейшем крошечном домике, отрезанном снегами от всего мира; с ним было интересно даже ничего не делать, просто оставаясь в своей комнате; он был гением по части умения пользоваться всеми возможностями, которые предоставляет жизнь…
То, что я видел сам и слышал от него самого, перемешалось с тем, что другие рассказывали мне о нем. Не все было таким уж замечательным и приятным. Многие, бесспорно, имели основания строго судить его. Я сам часто осуждал его и даже ненавидел. Но он сумел придать своей жизни, и нашей тоже, неповторимый вкус…
…Он прекрасно сочетал в себе бесчисленные противоречия. В каждое мгновение своей жизни он был скептиком и энтузиастом одновременно. Он мог не верить ни во что, считать себя евреем и быть христианином. Всякие долгие рассуждения его просто утомляли. Он обожал мир и не был привязан к нему…
… — Он ведь покончил с собой, не так ли? — прошептал мне Андре Швейцер, отведя меня в сторону.
— О, — ответил я, — думаю, что скорее он просто перестал хотеть жить…
Время шло, Ромен становился стариком и, не признавая эвфемизмов, которые так любит наше время, признал этот факт. Это самый банальный и самый удивительный феномен нашей жизни: молодой человек, полный сил, превратился в старика, который извлек из жизни все, что она могла ему дать. Пару раз он говорил мне со смехом:
— Честное слово, это было хорошо…
Употребление им прошедшего времени, совершенно ему несвойственное, прозвучало для меня сигналом тревоги: у него никогда не было привычки заглядывать в прошлое.
Наверное, какие-то мелочи, собравшись вместе, начали удалять его от мира, в котором ему было так хорошо. Так, он признался мне со смущением, почти стыдом, что побывал на приеме у врача и тот порекомендовал ему уже не подниматься три раза в день в горы на высоту от четырехсот до трех тысяч метров, не нырять на спор в море за морскими ежами, кораллами или обломками затонувшего корабля… Были и более серьезные признаки. Он пролистал роман, который произвел много шума, и этот роман ему очень не понравился. Когда я начал убеждать его, что книга не лишена таланта и что в ней хорошо показано, к чему мы все идем, он пробормотал в ответ:
— Ну, значит, я просто старею…
Я горячо возражал. Тогда он пояснил мне:
— Неудачи в политике, искусстве, житейские неурядицы — не в них дело. Вышибает из седла другое: когда ты чувствуешь, что все вокруг тебя начинает складываться как-то по-иному, что все смещается, а ты даже не понимаешь, что происходит… Возникает ощущение, что ты вытолкнут из мира самим ходом истории…
Я засмеялся:
— Такие дни случаются у всех.
— А у некоторых бывают годы.
— Это всего лишь проблемы печени.
— А точнее — веры. Бывают моменты, когда хочется просто предоставить людям и событиям идти своим чередом. Наверное, подобное могли чувствовать византийцы во время падения Константинополя; последние феодалы; последние светские салоны, в которых собирались чудаки, намеренно вырядившиеся, чтобы побеседовать на каком-то малопонятном для других языке; последние любители псовой охоты (я еще застал их с их рожками, веселыми «ритуалами смерти», красными и голубыми костюмами) или последние приверженцы Сталина или Гитлера (хотя об этих я нисколько не сожалею). Я всегда думал, что мир постоянно обновляется. Но не исключено, что время от времени, чтобы иметь возможность обновиться, мир должен заканчиваться.
— А я всегда думал, что ты не склонен принимать в расчет превратности истории.
— Я и не принимаю. Только вот воздух становится каким-то разреженным.
Чтобы Ромену не хватало воздуха, — это было что-то новое. И еще была история со статейкой Жерара. Дело было настолько пустячным, что я уже почти забыл о нем. В каких-то периодических изданиях: «Экспресс» или «Новый обозреватель», точно не помню, — он затеял публикацию целой серии анонимных очерков-портретов современного общества. Здесь были представлены в прозрачной форме различные его типажи: дама от политики (все узнали Мартин Обри), владелец предприятия (Мессье), синдикалистка (Николь Нота), певец, спортсменка, писатель, военный, крупный буржуа, пенсионер… В этом был весь Жерар, блестящий, искусственный, интеллектуальный и бесполезный. Именно то, что презирал Ромен. И вот, под названием «Обольститель», он набросал портрет Ромена, скорее отталкивающий, в виде записного героя-любовника, но уже уставшего…
Читать дальше