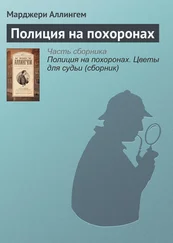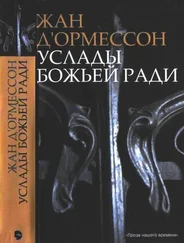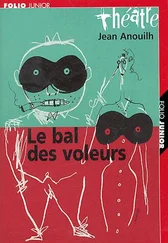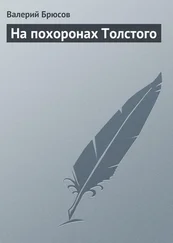— Хорошенькое дело! Можно было бы просто сварить их или разрезать на куски. Это не имеет никакого значения. Для них в том числе.
Марина возмущенно вскрикнула…
…И вот теперь мы хоронили его. Ему было все равно. А нам — нет. Мы отказались от военных почестей, от церемонии в Инвалидах, от речей. Мы отказались даже от трехцветного флага и ордена Освобождения на алой подушечке. Был только деревянный гроб и печаль тех, чья жизнь пересеклась однажды с его жизнью и стала от этого хотя бы немного красивее…
…Он был самым молодым из тех французов, которые бросили свое «нет» поражению и оккупации своей родины. Как давно это было!.. Когда он прибыл в Лондон с Симоном Дьелефи после их морской эскапады, французов там было немного. И немало тех, кто прибыл туда раньше, как Моран, стремились, наоборот, вернуться во Францию. Это было время, когда Де Голль объявил ста двадцати четырем французам, прибывшим на пяти кораблях с острова Сейн, чтобы продолжать борьбу вместе с ним: «Вы — четверть Франции», — в этих словах были и слава, и позор…
Именно потому что его сторонники были так немногочисленны, наши юные добровольцы, прибывшие в июне 1940-го, имели верный шанс встретиться с самим Де Голлем или, в его отсутствие, с одним из его ближайших сподвижников. Они отправились по адресу, указанному им английским офицером — площадь Сеймор, 6, — и были приняты там секретарем, только что приступившим к своим обязанностям, ее звали Элизабет. Она отвела их к лейтенанту де Курселю.
Лейтенант де Курсель оказался человеком высоким, сдержанным уже немного на английский манер. Он был мужественен и везуч: прибыл в Лондон в одном самолете с самим Генералом. Он принял двух юношей торопливо, но при этом с той же обходительностью и сердечностью, с которой он встречал тех редких политических деятелей и офицеров высшего ранга, которые решались присоединиться к Де Голлю. Симон сразу объявил ему, что одна только мысль о том, чтобы остаться во Франции и бездействовать, была ему нестерпима. Затем Курсель обратился к Ромену:
— А вы? — спросил он улыбаясь.
— А я, — ответил Ромен, — поставил на орла или решку.
Курсель пересказал его слова Де Голлю. Через несколько дней, 14 июля, вместе с моряками острова Сейн и некоторыми другими, Ромен был представлен де Голлю.
— А, это вы, Короткая Соломинка [4] Имеется в виду вытянутый жребий. ( прим. перев .)
, — сказал ему Генерал. — Поздравляю вас и примите мои наилучшие пожелания.
Эта кличка закрепилась. Я видел у Ромена фотографию Генерала, подписанную его рукой: «Ромену Короткой Соломинке, самому молодому из свободных французов, моему товарищу с первых дней — самых трудных и самых прекрасных — в доказательство уважения и симпатии. Шарль Де Голль».
Юный Ромен, как умеющий читать и писать, был отправлен в офис, где занимался оформлением бумаг. Не прошло и двух недель как он осатанел от этой работы. У него было одно большое преимущество: он говорил по-английски. Он встретился с высоким журналистом по имени Ив Морван, который избрал себе прозвище Жан Моряк. Этот Жан Моряк доверил ему работу на «Би-Би-Си», откуда Де Голль обращался с призывами к миру. Это было уже получше: Ромен корректировал тексты, подбирал материалы для Мориса Шуманна или Жана Оберле, которые организовали трансляцию передач «Французы говорят с Францией». Под яростными бомбардировками, предпринятыми Герингом летом и осенью 1940-го, чтобы поставить на колени Англию, среди горящих церквей, среди случайных прикрытий, под которыми горстка любителей виски и игроков в крикет спасала честь воюющего мира, Ромен интересовался главным образом некоей Молли, ее светлые волосы были так аккуратно собраны в узел на затылке, и вся она была такой свежей и кругленькой в своей облегающей униформе…
Они любили друг друга ночью, среди пожаров, в вое сирен; они прогуливались на заре, среди ночных развалин. Ромен чувствовал себя безумно счастливым. Он любил Де Голля, такого бедного и великого. Он любил англичан, которые все были героями, единственными героями на то время. Он любил Черчилля, речи которого знал наизусть, и часто повторял его слова: «Я могу предложить миру только свою кровь, труды, слезы и пот» или «Муссолини? Но это же просто карнавальный шут!» Но особенно он любил Молли, ведь было ему всего лишь чуть более шестнадцати лет, и находился он в Англии, осажденной, но не сдающейся…
Однако эта чудесная жизнь, которую он вел в самом сердце мировой катастрофы, в центре циклона — как в венецианской гондоле в бурю или во дворце «Тысячи и одной ночи», осажденном джиннами, — эта жизнь вовсе не соответствовала его представлениям о войне и, главное, о самом себе. В войне, которую вела Англия, он лично почти не принимал участия. И он опять обратился к Курселю, который, перейдя в «St. Stephen’s House» — довольно грязное старое здание в двух шагах от Уайтхолла, на набережной Темзы, — расположился теперь в Карлтон Гарденс.
Читать дальше