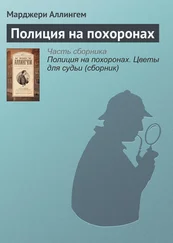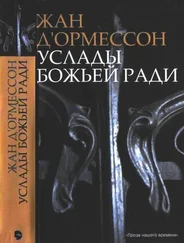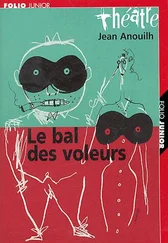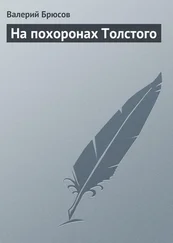Я вспомнил, как вечерами мы сидели с ним под тентом, на палубе корабля, за оригинальным блюдом — чем-то вроде смеси водки с говяжьим консоме, — на венецианской альтане, глядя сверху на черепичные крыши Венеции. В небе роились мириады звезд, и мы созерцали их в вечерней тишине. Нам не раз случалось говорить с ним о жизни, о смерти, о человеческой судьбе. Я спрашивал его, во что он вообще верит. И я заранее знал ответ: он ни во что не верил.
— Как? — переспрашивал я. — Совсем ни во что?
— Отчего же? — отвечал он мне. — В солнце. Воду. В снег на горах. В краски этого мира. В дружбу. И, может быть, в любовь…
— А в разумное устройство Вселенной?
— Во что? — переспросил он.
— В смысл истории. В суть вещей, скрытую за ними. В тайну, кроющуюся за видимостью.
— Ты говоришь о Провидении? Конечно, нет. Я не верю ни в какого Бога. Если таковой существует, пусть его приверженцы докажут мне это.
— А что после смерти?
— После смерти — ты и сам хорошо это знаешь, и все это знают, только боятся себе в этом признаться — после смерти нет ничего. Мы умираем, как деревья, подточенные временем или поверженные молнией; как эти морские птицы — ты помнишь, мы подбирали их, бездыханных, на пляжах Корсики или Греции, — и мы умираем полностью.
— И что, когда ты умрешь, не будет ни священника, ни отпевания, ни молитв, ни надежд?
— Молитв? Зачем? Нет, мне ничего не надо.
— Просто имя на могильной плите?
— Имя?..
Я видел, что он раздумывает…
— Мое имя? Я думаю, что этого уже слишком много. Это бессмысленно… Зачем? Нет-нет, я совсем ничего не хочу… Ни молитв, ни воспоминаний… Прошу — никаких речей. Я всегда ненавидел речи. Никаких рассуждений. Не надо дат. Имени тоже не надо. Меня зароют в яму — и покончим на этом.
— Да уж, — сказал я, — это будет не слишком весело.
…Это оказалось совсем невесело. Мы все плакали. Мертвых всегда оплакивают, потому что знают, что больше не увидят их здесь, на земле, — даже если мы храним в сердце смутную надежду встретиться с ними когда-нибудь потом и в иных сферах… С Роменом все было хуже. Нас было довольно много — тех, кто любил его, — но он не оставил нам ни малейшего шанса вновь встретиться с ним — ни здесь, ни там, в какой бы то ни было форме… Он занимал огромное место в жизни многих из нас и теперь уходил навсегда, не протянув спасительного шеста, за который могли бы ухватиться наши надежды…
Я пришел на похороны задолго. Не считая фотографов, уже готовых к работе и липнущих вокруг Жерара, народа было еще мало, и я шел почти в одиночестве по длинным кладбищенским аллеям, окаймленным деревьями и могилами. Было хмурое мартовское утро, падали редкие капли дождя. Меж тем весна уже начинала пробиваться издали — неприметно, но упрямо — сквозь тучи, бродившие высоко в понемногу голубеющем небе. Если не считать, что Ромен умер и мы собирались его хоронить, — вполне обычный день…
Но в этот день мир сосредоточился вокруг Ромена. Потому что мы были друзья, а он уходил навсегда. Смерть, как любовь, стирает все остальное. Остались только он и я. И бесчисленные связи, которые нас объединяли.
Разные картины представали передо мной. Я снова видел его в Венеции, на Бали, в монастыре Святой Катерины, на Синае — там мы бывали с ним вместе. Это были красивые и яркие воспоминания. Но временами его лицо уже как бы начинало стираться: мне не удавалось ясно представить его себе. Он ускользал, растворялся, и меня понемногу охватывала паника. Я начинал опасаться, что вскоре буду не в состоянии мысленно увидеть его образ…
В этот момент я заметил вдали идущий ко мне знакомый силуэт — в свободном пальто, руки в карманах — Виктора Лацло. Его черное пальто было отторочено меховым воротником. Он был в перчатках, кожаных сапожках, довольно высоких, в своем знаменитом галстуке-бабочке в горошек. Этот галстук был чем-то вроде опознавательного знака для тысяч его студентов, а они на Виктора просто молились. Его глаза блестели за стеклами очков и, в сочетании с очень белыми волосами, придавали ему странный вид человека, пришедшего в это угрюмое место просто развлечься.
Виктор Лацло и вправду был любопытной личностью. Он был венгр по национальности и преподавал в Высшей практической школе. Что он преподавал? Трудно сказать. Вообще он был лингвистом. Он говорил на добрых двух десятках языков, а начинал в Париже и Принстоне с курсов тибетских языков. Он называл себя мифологом, был великолепно образован, и его лекции в Высшей школе привлекали пеструю толпу студентов, а еще бродяжек в надежде согреться, да честолюбивых чиновников и светских дам, которым не повезло в жизни и которые не смогли найти утешения в религии.
Читать дальше