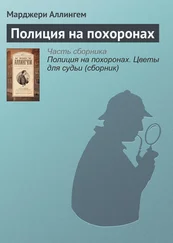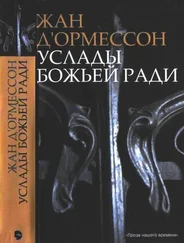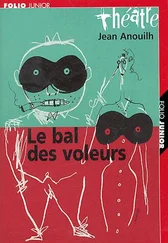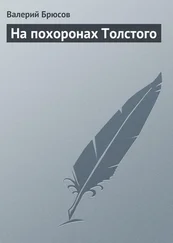Здесь присутствовала его «когорта верных», но она не была еще в полном составе. А вокруг нее — те, чья жизнь в тот или иной момент лишь пересеклась с жизнью Ромена. Удивляло отсутствие одних и присутствие других… Я думал, что все знаю о жизни Ромена, но оказалось, что она все время выходит из берегов моего знания о ней. Мир вообще больше всего того, что можно о нем сказать…
… Я чувствовал, что в рассказах Бешира много пробелов, или даже так: его повествование было тканью, состоявшей из сплошных пробелов. Я сейчас не могу вспомнить, узнал ли я еще на Патмосе или уже позднее — из его уст? или от других? — о некоторых темных вещах, которые так не вязались с белизной греческих домиков под летним солнцем. И, наверное, неслучайно мои воспоминания — такие точные в том, что касалось Марины или экзотических цветов на террасе, — здесь вдруг запутывались: подсознательно я хотел, как и сам Бешир, чтобы они канули в забвение…
…Приблизительно в то время, когда Ромен отплывал из Марселя на Гибралтар вместе с Симоном Дьелефи — вы помните эту историю, — Бешир отплывал во Францию. Тогда в жизни Мэг уже был мужчина — их будет еще много в ее жизни — это был некий француз. Мэг присоединилась к нему, сопровождаемая Беширом. Вот уже несколько месяцев как она была с этим французом неразлучна. Он бежал от войны в Америку налегке, один, без багажа и родных. Мэг уехала в Америку с этим человеком одна…
Еще в свою бытность в Ливане и Северной Африке Бешир так мечтал о Франции. И вот теперь он, покинутый и растерянный, оказался в одиночестве в этой стране на грани ее катастрофы, в стране, из которой многие бежали и, главное, бежала та, к которой он был так привязан. В общей неразберихе он сумел нелегально устроиться в ней, как нелегально многие ее покидали. Он неплохо говорил по-французски, на том общеупотребительном французском, место которого сегодня занимает английский. Так он протянул более года, существуя нелегально в полном одиночестве, подворовывая на пропитание, ухитряясь стибрить что-нибудь на черном рынке, много раз переходя туда-обратно демаркационную линию — это было для него чем-то вроде захватывающей игры, тем более, что нарушать демаркационные правила не составляло для него труда и даже было предметом гордости.
Французы, оказавшиеся в июне 1940-го года в руках маршала Петена, — а что они могли поделать? — были в подавляющем большинстве и сторонниками маршала, и, одновременно, враждебно настроенными к немцам. С беретами на головах и тщеславием в сердцах они чванливо распевали: «Маршал наш, что будет с нами? / Ты надежду нам вернул…», а заботились главным образом о том, чтобы прокормиться, согреться и выжить среди самой страшной катастрофы, которая когда-либо постигала страну. Организованное сопротивление оккупационным войскам в конце 1940-го и начале 1941-го годов было еще только в зародыше. Несколькими месяцами позже Бешир мог бы оказаться в рядах Сопротивления — и это было бы вполне естественно. Я даже представляю себе именно такой ход событий, который мог бы — с его-то энергией и храбростью — впоследствии принести ему авторитет в послевоенном общественном мнении и неисповедимыми путями поднять его по ступеням социальной лестницы. Я так и вижу его, бесстрашного и верного, сражающимся с немцами, отмеченным Мальро и шествующим в нескольких шагах от Де Голля и Бидо на Елисейских Полях в памятном 1944-м. Но летом 1941-го ему предоставился и другой путь. Его-то Бешир и выбрал…
Я не знаю, как и чьей помощью Бешир вошел в контакт с LVF. Об этом можно только догадываться.
Например, так… По раздавленному жарой военному Парижу, пустому, призрачному, лишенному души и все же захватывающе прекрасному, бредет Бешир. Вот он, засунув руки в карманы, медленно спускается по улице Руайяль. Он равнодушен к этому городу, происходящее в нем его мало волнует, если бы только не отсутствие Мэг, о которой он не перестает думать. Вот он выходит на площадь Согласия, между старым зданием справа — из него в свое время Шатобриан отправился на Восток — и Морским министерством слева, занятым немцами; здесь он останавливается, чтобы осмотреться вокруг. Вся огромная пустынная площадь пестрит белыми табличками с немецкими надписями — это указатели направлений и зданий для оккупационых войск: «Kommandantur», «Lazaret», — с какими-то еще непонятыми обозначениями: они для Бешира все равно что на китайском. Над несколькими крышами развевается красный флаг со свастикой. Даже Бешир, ничего не знавший о довоенном Париже и его бурной жизни, что била здесь ключом всего несколько месяцев назад, даже он осознает огромность этой катастрофы, в которой есть что-то мистическое. Он поворачивает налево к саду Тюильри и, восхищенный открывшимся видом, бормоча «Париж… Париж…», делает несколько шагов назад, чтобы полюбоваться… и вдруг сильный удар швыряет его на землю…
Читать дальше