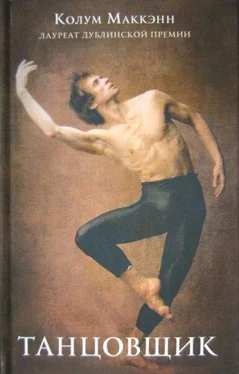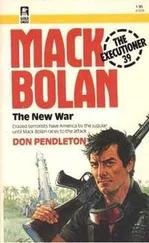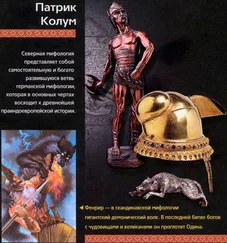В гримерной он слушал Первый концерт Листа — Рихтер, Кондрашин и ЛСО. Мы пили «Шато д'икем». Прекрасный получился вечер, впрочем, сняв туфли, Эрик болезненно поморщился и стал с силой растирать ступни, а потом сказал, что, похоже, у него треснул после особенно высокого sauté палец. (Лист однажды играл с небольшой трещиной в левой руке и говорил потом, что буквально чувствовал, как ноты перепрыгивают с кости на кость.)
Ни перелома, ни трещины у него не нашли, однако больничный врач сказал Эрику, что ступни свои он погубил и в старости ему будет трудно ходить. Эрик пожал плечами, усмехнулся: «Ладно, буду передвигаться, исполняя буррэ».
Эрик говорит: после выступлений ему все чаще кажется, что он куда-то ушел от себя. Сидит один в гримерке, усталый, так и не выйдя из роли. Переодевается, смотрится в зеркало и видит лишь чье-то отражение. Приходится вглядываться долгое время, прежде чем он узнает старого знакомого — себя. Только тогда он покидает театр.
Набор редких башкирских фигурок из дерева: 8000 франков.
Мысль о том, как они сидят за столом в Уфе, — хлеб, борщ, графинчик водки, мама штопает свой синий халат, Тамара возвращается с базара. Моя вина огромна, но что я могу сделать?
Когда Елена (как она прекрасна) только-только появилась во Франции, то жила она тем, что шила подвенечные платья по заказу буржуйских семей, приехавших до нее. Потом она рассказала, как добиралась на судне от Киева до Константинополя, с ней плыло очень много людей, бежавших из дома с самым дорогим, что у них было, с нелепыми вещами — лампами, ножичками для вскрытия конвертов, фамильными гербами. Большую часть пути она на берег не сходила, а из-за дурной погоды плавание растянулось на многие дни, и она сказала — совершенно чудесно, — что с тех пор ощущает движение воды во всем, особенно в истории и в скрипках.
Он светловолос, худощав, молод, ребячлив. Иногда такая красота заставляет меня приглядываться к себе, хоть я и ничего не боюсь, но танцовщик он дерьмовый, словно свинцом обвешанный.
Когда его (как и ожидалось) не приняли даже в кордебалет, он забился в истерике. Я подумал, не утешить ли его еще разок, но, что бы ни говорила Клодет, по жизни меня ведет вовсе не пенис. Ну, не всегда! Как заставить его понять, что ему требуется больше честолюбия, что место в кордебалете, положение молекулы воздуха в барабане, приговоренной издавать малый шум в малом пространстве, — это не цель?
Он сидел, с упавшими на глаза волосами — несомненное подражание. Я обещал ему помощь. В репетиционной его пришлось убеждать в важности медленного адажио, в необходимости контролировать пол, но и сохранять четкую позу. Он не слушал, пока я не влез на подоконник и не спрыгнул на замерзшую землю. (Ненавижу линолеум.)
Я смотрел, как он раз за разом ошибался. Ну что тут поделаешь? В его душе нет ни соли, ни перца. Наконец он заявил: «Я устал». Я ответил, что если он сейчас уйдет, то обрубит ветку, на которой сидит, однако он все равно ушел, связав шнурки туфель и повесив их на палец.
Он хочет написать мою биографию, но что мне ему сказать? — он говно, от него несет чесноком, у него слишком много сала под поясным ремнем, чахлый умишко, и место в Музее жоп с глазами за ним уже закреплено, несомненно. Я объяснил ему все это (!) и услышал в ответ, что я производил бы намного лучшее впечатление, если бы был поскромнее и умел как следует слушать. Я ответил, что да, действительно, я тоже жду не дождусь, когда наконец умру.
(Гиллиан говорит, что моя манера материться на английском французском татарском русском немецком и так далее распространяется, точно вирус.)
Пошел с письмом Юлии в Тюильри, посидел на скамье. Письмо много раз раскрывали и складывали, где оно только не побывало: пришло в Лондон на адрес Марго, оттуда отправилось в Париж, в посольство Австрии, а из него — к Гиллиан.
Почерк у Юлии великолепный, петлистый. Она не один год собиралась написать мне, но по разным причинам, ни одна из которых теперь уже не существенна, откладывала. Отца Юлии нашли мертвым в его уфимском доме. Должно быть, Сергей знал, что его ожидает последнее путешествие, поскольку был в шляпе, а он никогда ее дома не надевал. В одной руке перо, другая прижимала к груди записную книжку. Он оставил ей письмо: «Какое бы одиночество ни испытывали мы в этом мире, оно наверняка объяснится, когда мы уже не будем одиноки». Он написал, что совсем не боится смерти, его ничто не пугает, да и с чего бы? — он же вот-вот соединится с Анной, которую любил всегда, даже в мгновения самого страшного мрака.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу