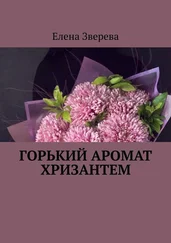Давно замечено, что между Женевой, Санкт-Петербургом и Москвой существует глубинная взаимосвязь, культурноисторическое единство, взаимное притяжение. Эти три города символизируют три мира, три попытки воплотить в жизнь идеи равенства и справедливости. И вместе с тем представляют собой три антимира: европейский Запад, его российскую копию и причудливый московский симбиоз русского Запада и русского Востока.
Москва — татарский Рим, уникальное смешение азиатчины с европейщиной, великодержавная столица полуцарства-полуханства. Гулящая, пестрая, бабья, вшивая, кабацкая, мещанская, грязная, расхристанная, православная, сонная, сумасбродная, суетливая, лоскутная, полоумная, кающаяся, балаганная, домашняя, бунтарская.
Петербург — антипод Москвы, самозванец, барчонок, пасынок русской истории, символ безвременья, российский тупичок европейской культуры, Олимп (или Голгофа?) русской науки и искусства. Блистательная столица великой и несчастной империи — холодная, модная, чахоточная, интеллигентская, молодая, грешная, инфернальная, инославная, серо-голубая, промозглая, гранитная, гнилая, рассудочная, революционная.
Женева — испокон веков культурное захолустье, самый мещанский город Западной Европы, пуританский, но стремящийся к наслаждению и умеющий насладиться жизнью. Женева — богатая, чопорная, недалекая, бездарная, праведная, уютная, деловая, толерантная, подозрительная, хваткая, изнеженная, самодовольная, цивилизованная. Она контрреволюционная колыбель многих государственных переворотов, включая и русскую революцию.
Москва и Санкт-Петербург тесно связаны хитросплетениями русской истории и едины, словно близнецы-братья: Прометей и его противоположность, культурный антигерой Эпиметей. Питер — плут, озорник, трикстер, нарушивший многочисленные табу русской патриархальной жизни. Он обречен на конфликт, блестящее, но порой бесплодное соперничество с первопрестольной, исход которого в каждую историческую эпоху составляет суть российской истории. Причем на протяжении многих столетий онтологическая природа русской цивилизации и государственности не меняется, несмотря на смену символов, столиц, политических режимов, форм правления. Ключом к ее пониманию остаются самодержавие, православие и соборность. Им противостоит женевский, общеевропейский индивидуализм, религия «мира сего» и разделение властей.
Иными словами, когда Питер опьянен свободой и бредит революцией, а Москва похмеляется и умывается кровью, Женева из своего прекрасного далека возмущается дикости российских нравов и сострадает невинным жертвам русского бунта. А тем временем российская глубинка «безмолвствует», глядя на столичные пореформенные судороги, и пьет горькую. Российская государственная власть, гастролирующая из Москвы в Петербург и обратно, не вызывает никакого интереса у жителей придорожных деревень с характерными названиями: Домославль, Миронежье, Березай, Долгие Бороды, Шапки, Халохоленка, Добывалово, Выползово, Спас-Заулок, в которых русская провинция раскрывает свой вкус и цвет.
Если исходить из значимости деяний, то отцами-основателями этих городов можно назвать Кальвина, сумевшего вдохнуть в Женеву новую жизнь, Калиту и Грозного, превративших Москву в подлинную столицу Руси, и «царя-антихриста» Петра I, чьими стараниями был возведен Петербург. Создатели этих миров прочили великое будущее своим творениям и не ошиблись. Однако ни Москва, ни Санкт-Петербург, ни Женева уже давно не вершат судьбы мира и Европы и не тщатся указать им единственно правильный и праведный путь. Атмосфера бого- и чертоискательства, борьбы свободной духовности с государственным культом сменилась в этих мирах нефилософской страстью к потреблению. Сегодняшняя психологическая доминанта Женевы — комфортность, Петербурга — обыденность, Москвы — суетность, не имеющая ничего общего с прежней разудалой, распашной московской жизнью, о которой писали В. Белинский, Н. Лесков, А. Грибоедов. В русской литературе Петербург — город Достоевского, «тайновидца духа», по словам Д. Мережковского, а Москва — город Льва Толстого, «тайновидца плоти». Духовным отцом Женевы, кроме Кальвина, следует считать Родольфа Тепфера — певца женевской исключительности, праведности и цивилизованности. По признанию Льва Толстого, он находился под сильным впечатлением от его «Женевских новелл», работая над повестью «Детство».
Читать дальше
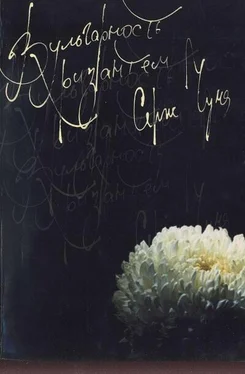
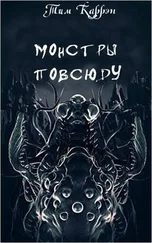
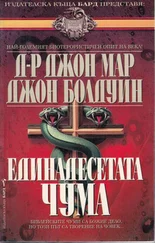


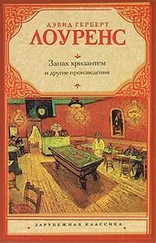
![Нисон Ходза - Поле заколдованных хризантем [Японские народные сказки]](/books/387714/nison-hodza-pole-zakoldovannyh-hrizantem-yaponskie-thumb.webp)
![Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы. Книга II. Чума бактериологического периода [без иллюстраций]](/books/416279/mihail-supotnickij-ocherki-istorii-chumy-kniga-ii-thumb.webp)
![Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы. Книга I. Чума добактериологического периода [без иллюстраций]](/books/416280/mihail-supotnickij-ocherki-istorii-chumy-kniga-i-ch-thumb.webp)