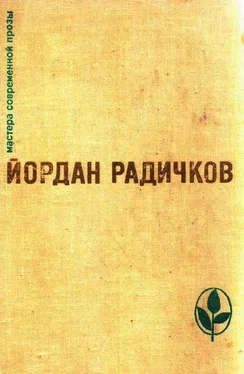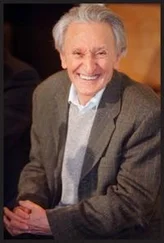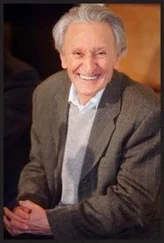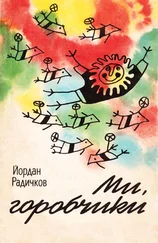Такого рода «вживание» в духовный мир персонажей необходимо Радичкову по самому складу его таланта и оправдано уже тем, что мир и история предстают в самых неожиданных измерениях, открывая новые возможности перед литературой. В повести «Все и никто» драматическое переплетается с фарсовым, а в предшествовавшем ей «Последнем лете» нет ни грана карнавального смеха над «суматохой», хотя коллизия создана тем же стыком эпох, который оказывается непереносимым для главного персонажа. И повествовательное искусство Радичкова, по сути, осталось тем же искусством «вживания».
«Последнее лето» показало, как многообразно дарование его автора, и еще раз подтвердило неисчерпаемость оттенков, которые способен передать гротеск.
В данном случае признаки гротеска не столь самоочевидны, как в повести о «ералаше», поднявшемся в селе Разбойна, но ведь трагическое тоже сродни гротеску: свидетельством тому искусство Гофмана, Гоголя — любимых писателей Радичкова. Предельная заостренность описанной в «Последнем лете» ситуации, несомненно, заключает в себе черты гротеска: затопленное село и оставшийся от него единственный дом на высоком холме, затянутая речной тиной былая жизнь, до болезненности напряженные отношения героя с братом и с сыном, скупо а жестко выписанный трагический фон — умирающие греческие дети на дорогах, которыми в балканскую войну прошел отец Ивана Ефрейторова, застреленный у реки парнишка-партизан, в которого сам Иван стрелял в другую войну, принесшую Девятое сентября. Исступленный бунт сына против отца и безумная погоня на последних страницах повести — тоже художественное нарушение реальности в соответствии с законами гротеска, который на этот раз необходим для укрупнения драмы, переживаемой героем.
Эта драма требует художественного укрупнения: ведь на прозаичном фоне повседневного крестьянского обихода развертывается поистине безысходный конфликт человека со временем и с самим собой. В годы грандиозного перелома Иван Ефрейторов, в отличие от Мравова, выбирает путь, ведущий в никуда. У себя на холме он пытается воздвигнуть крепость, в которую закрыт доступ каким бы то ни было переменам с их неизбежной «суматохой». Он хочет выключиться из неспокойного века, сохранить свою вселенную замкнутой и, создав иллюзорную неподвижную жизнь, заставить и других принять ее как истинную.
Все дело в том, что герою «Последнего лета» не дано различить за нынешним «ералашем» смысл и перспективу, логику и необходимость происходящего. Он травмирован драматизмом эпохи и бросает ей отчаянный вызов уже своим добровольным «остранением», которое оправдывает и гротескную остраненность поэтики Радичкова в этой его повести.
Как типично это побуждение Ивана Ефрейторова во времена, когда колесо истории катится по живым человеческим судьбам, не разбирая правых и виноватых! И вместе с тем какая в нем обреченность, показанная Радичковым с полной объективностью. Перед нами, в сущности, обычный крестьянин, человек сельского «мира», и ему невозможно жить в одиночку, не ломая и не уродуя себя. В той ситуации, которую создает Радичков на страницах «Последнего лета», исход может быть только жестоким: или гибель, или мучительная, но необходимая перестройка всего характера мышления, присущего герою. Радичков вплотную подводит его к этому выбору и завершает рассказ, не обозначив конечной развязки конфликта. В такой недоговоренности — художественная правда, потому что и для героя «Последнего лета» еще существует другая дорога и, может быть, он сумеет повернуть судьбу.
«Последнее лето» наполнено острейшими драматическими коллизиями, и рядом с ним такая новелла, как «Еж» (1975), поначалу удивляет — неужели это тот же самый писатель? Может быть, лишь давний эпизод биографии героя этой повести, известного прозаика Эмилияна Станева (Э. С.), в молодости посланного на борьбу с контрабандистами и вместо преступников увидевшего перед собой обреченных людей, как-то связывает «Ежа» с «Последним летом». Все остальное кажется явлением совершенно иной художественной природы: в «Еже» господствует стихия смеха, фантазии и бурлеска.
Скромный ежик, поселившийся рядом с дачным участком Э. С. и ежедневно путешествующий через шоссе к лягушкам, творит чудеса, прокалывая лучшие в мире автомобильные покрышки «Дэнлоп» и устраивая одну аварию за другой. Когда еж все-таки погибает под колесами автоколонны, вместе с его душой возносится в горние сферы воображение Э. С., который обсуждает экологические проблемы с дьяволом и обитателями райских кущ. Изобретая один невероятный сюжетный ход за другим, Радичков тут же высмеивает собственную изобретательность, и вся повесть — смешение фантастики и пародии, которую автор обращает и на самого себя.
Читать дальше