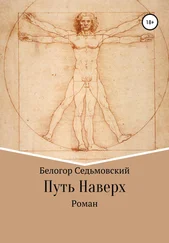— Мамаша Браун,— сказал Реджи.— Это ее личный автомобильчик. У муженька свой «бентли», и еще у них имеется восьмицилиндровый «форд» про запас.
— И она, как видно, ни на секунду об этом не забывает.
— Можешь быть спокоен. Она последняя из Сент-Клэров и купается в золоте. Старая хрычовка. Для каждого у нее свое место, и каждого она сумеет на свое место поставить. Она форменным образом изгнала из нашего города одного молодого человека за то, что он вздумал поухаживать за Сьюзен.
Я расплатился с шофером такси.
— Я не знал, что здесь будет Сьюзен.
— Вы еще очень многого не знаете,— сказал Реджи, когда горничная распахнула перед нами дверь.
Холл по своей безликости походил на вестибюль гостиницы. На стенах висели всевозможные трофеи: буйволовые рога, львиные головы, пропеллер «фокке-вульфа»,— но все это производило впечатление предметов, купленных одним махом, слишком уж они все были чистенькие, новенькие и слишком аккуратно развешаны по стенам. Все, начиная от серебряной шкатулки с сигаретами и кончая инкрустированными пепельницами, было новое, тяжелое и дорогое. Когда горничная взяла мое пальто, я поспешил окинуть себя взглядом: у меня было неприятное ощущение, словно я забыл застегнуть брюки, или зашнуровать ботинки, или надел разные носки.
Гостей собралось уже человек двадцать, и почти ни с кем из них я не был знаком. Туалеты на девушках были самые сногсшибательные. Я помню, что Сэлли была в голубом платье, очень относительно прикрывавшем весьма соблазнительную грудь, и даже Энн Барлби выглядела вполне сносно в бело-розовом шифоне. Комната, в которой мы находились, была самой большой из всех, какие мне когда-либо доводилось видеть в частных домах, а такие паркетные полы я видел прежде только в библиотеках или музеях. Мебель была того сорта, которому предстояло войти в моду лишь десять лет спустя, а стены — зелеными, причем все разного оттенка.
Но лишь только я увидел Сьюзен, окружающее перестало для меня существовать. Она была в юбке из черной тафты и белой кружевной английской блузке, и рядом с ней все другие девушки казались потрепанными жизнью и помятыми. Вот, пожалуй, подумалось мне, своего рода оправдание капиталистической системы для тех, кто его ищет: превосходный человеческий экземпляр, птица-феникс среди уток и кур.
— Здравствуйте,— сказал я.— Вы так ослепительны, что на вас больно смотреть.— Я поглядел ей прямо в глаза, но вынужден был первый отвести взгляд.— Я не знал, что вы будете здесь.
Она надула губки.
— Вы хотите сказать, что не пришли бы, если б знали?
— Наоборот. Я знал, что без вас мне здесь будет неинтересно. Видеть вас — это уже само по себе праздник.
— Вы просто смеетесь надо мной,— сказала она, понизив голос.
— Я говорю совершенно серьезно. Хотя, может быть, и не имею на это права.
Она немного помолчала, пристально глядя на меня. Я впервые заметил тогда эти золотистые искорки в ее карих глазах: они словно танцевали — то вспыхивали, то гасли. Я смотрел ей в глаза, вдыхал ее аромат и чувствовал, что у меня начинает кружиться голова.
— Я не понимаю, почему вы не имеете права говорить серьезно,— сказала она.— Нехорошо… Нехорошо, если вы опять шутите.
Никогда не любил я ее так, как в ту минуту. Я забыл про «ягуар», и про «бентли», и про восьмицилиндровый «форд». Она любила и хотела быть любимой, она вся светилась нежностью, и мое сердце уже не могло не откликнуться на этот призыв, как не мог бы я отказать ребенку в куске хлеба. Где-то в подсознании счетная машина уже зарегистрировала «успех» и начала сочинять торжествующее письмо Чарлзу, но все, что было во мне подлинного, все, что было во мне честного, в искреннем порыве рванулось к Сьюзен.
В эту минуту со мной заговорила мать Сэлли, сверкая любезной улыбкой и драгоценностями.
— Моя несносная дочь пренебрегает своими обязанностями,— сказала она.— Разрешите мне представить вас нашим друзьям, Джо.— Краем глаза я видел, что Реджи увел куда-то Сьюзен, после чего минут десять передо мной, как в тумане, мелькали незнакомые лица и невнятно звучали чьи-то имена. Мне запомнился студент-медик, какой-то молодой человек со сломанным носом, несколько мужчин неопределенного возраста — по-видимому, служащие фирмы «Карстейрс и компания», целый выводок молоденьких офицериков и, как мне показалось, не меньше сотни юных девушек в вечерних туалетах.
Те годы, когда мы получали пайки по карточкам, сейчас уже стерлись в памяти, но одно я помню твердо: люди тогда были вечно голодны. Не так голодны, как был я голоден в лагере для военнопленных, но голодны в том смысле, что не могли поесть вволю; голодны в том смысле, что съедали все без остатка; что им хотелось и мороженого, и ананасов, и жареного поросенка, и шоколада. Карстейрсы, принадлежавшие к миру дельцов, обладали, разумеется, большими возможностями, но угощение, приготовленное для нас в столовой, показалось бы чрезмерно обильным даже в нынешние дни: там были омары, пирожки с шампиньонами, анчоусы, сэндвичи с цыпленком, с ветчиной и с индейкой; копченая дичь с ржаным хлебом и салат из фруктов, слегка приправленный хересом; меренги, яблочный пирог, датский сыр, чеширский сыр, сыр-рокфор и с дюжину всевозможных тортов, разукрашенных кремом, шоколадом, фруктами и марципанами. Сьюзен с довольным, почти материнским видом наблюдала за мной, пока я ел.
Читать дальше