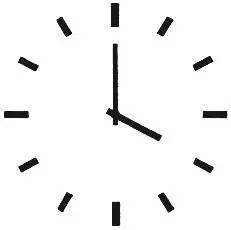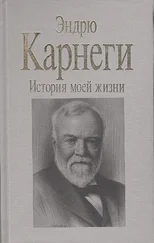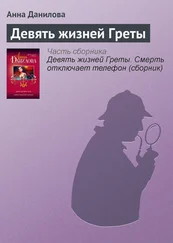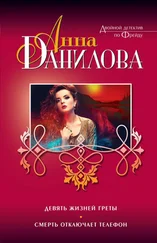– Спасибо, что навестила меня. Это было моим единственным развлечением, – сказал Феликс.
Флагшток продолжал дребезжать.
– Я не спросила, как тебя там кормили.
Он затянулся сигаретой, другой рукой протирая глаза.
– Полагаю, непатриотично так говорить, но если уж сажать на хлеб и воду, то немецкий хлеб был бы предпочтительнее. Они думали, что я шпион.
– Выглядишь ты ужасно.
Он выдавил улыбку, не открывая глаз:
– Спасибо, Грета. Нас не пытали. Кроме меня, там были итальянцы и куча гансов. Так вот, все были шпионами. Но Алан меня вытащил.
– Отчасти нам повезло, – сказал Алан. – Мне удалось устроить так, что его дело уничтожили. Я знаю многих полицейских. И судью тоже.
– Спасибо, – поблагодарила я его серьезным тоном.
Оконные стекла дрожали под напором завывающего ветра.
Алан глубоко вздохнул, пригладил короткие седые волосы и сказал:
– Но мы не можем уничтожить газеты с его именем.
Феликс испуганно посмотрел на него.
– Там упоминалось место, где вас нашли, – уточнила я.
«Дин-дин», – звенел в тишине флагшток. Оконные стекла дребезжали. Мы сидели на своих местах неподвижно, молча переглядываясь.
Молчание нарушил Алан:
– Что-нибудь придумаем. Мы с Гретой о вас позаботимся.
Он посмотрел на Феликса в упор, переложив чашку в другую руку, возможно желая удержаться от утешительного жеста. Конечно, он уже позволил себе такой жест по дороге из тюрьмы: пожал Феликсу руку, под пальто, чтобы не увидел водитель.
Я услышала в коридоре осторожное покашливание миссис Грин, предупреждавшей о своем приближении. Взгляды мужчин разлетелись в разные стороны, и скоро Алан попрощался, снова став любезным деловым человеком, которого я знала. Я попыталась представить, каким он был бы в 1918 году – в жилете и фраке, с карманными часами. Дверь щелкнула, закрываясь.
– Ингрид осталась в Вашингтоне, – сообщил Феликс, глядя на дверь. – У своего отца. Плохо, что я попал на заметку. И в газетах нехорошо об этом написали.
– Она забрала твоего сына.
– Я потерял работу, – сказал он, глядя на меня прищуренными глазами.
– Феликс!
Он нервно попыхивал сигаретой.
– Без всяких объяснений. Не сочли нужным. Теперь меня никуда не возьмут.
– Феликс! – воскликнула я, схватившись за подлокотники его кресла так яростно, что он испугался. Мне было нелегко это сделать в тесном платье. – Феликс, ты не можешь жить один.
Он облокотился на свободную руку и выдохнул дым.
– Грета, Алан был в баре вместе со мной. Он знаком с полицейскими, но не мог мне помочь.
– Переезжай к нам с Фи, – предложила я. – Ребенку нужен мужчина в доме.
– Я не мужчина! – Он перешел на крик. – Ты что, газет не читала? Я сексуальный преступник.
– Все будет хорошо.
– Когда? – (Я ничего не сказала и отошла от него.) – Мне очень жаль. Ты не должна была ни видеть, ни слышать этого. Должно быть, это внушает тебе отвращение.
– Я не та, за кого ты меня принимаешь.
Он взглянул на меня, и я увидела в его глазах искорку надежды.
– Я уже говорила, – добавила я.
Он сглотнул и поморщился от какой-то неведомой мне мысли, а затем, понизив голос, спросил:
– Когда все будет хорошо? Для таких, как я?
В комнату ворвался яркий свет послеполуденного солнца: пролившись на люстру, он мгновенно рассыпал преломленные лучи по лицу и телу моего брата. И я вдруг поняла, что такого времени еще не видела. Но этого нельзя сказать человеку. Нельзя сказать, что ты видел много возможных миров, где люди процветают или терпят неудачу, а для него подходящего мира нет. Через мгновение прекрасный световой эффект пропал. У входной двери послышался голос доктора Черлетти. Пора было идти на процедуру.
– Переезжай к нам, – только и успела сказать я, прежде чем миссис Грин впустила доктора.
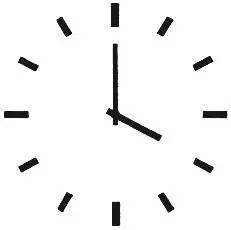
24 декабря 1985 г.
В сочельник я и тетя Рут, закутанная в свою старую шубу, сидели на крыше, передавая друг другу косячок. О восьмидесятых можно сказать что угодно, но, по крайней мере, травку тогда доставали без особых проблем. Мы обе были в черном, с красными от слез лицами: только что с похорон.
– Это невыносимо, – сказала Рут в небо 1985-го. – Кажется, отныне я буду ходить только на поминки.
На этот раз умер Алан.
Панихида состоялась в главной методистской церкви. Мы слушали речи мужчин, которые вставали между двумя великолепными урнами, украшенными розами, и говорили о покойном. На похоронах геев всегда много цветов. Я давно перестала ходить на похороны: эти стали первыми с тех пор, как почти год назад умер Феликс. Я наблюдала ужасные перемены. Раньше собирались старые друзья умершего и вспоминали, каким он был молодым, сильным, веселым и мужественным. Теперь эти речи произносили молодые люди, знавшие покойного от силы шесть-семь месяцев: юноши лет двадцати, с жидкими бородками, в красивых тесных костюмах, захлебывались в бесконечных рыданиях. Один худощавый парень встал и, не отрывая глаз от витражного образа негасимой свечи, высоким срывающимся голосом запел хорошо знакомый спиричуэл «В саду». Конечно, все объяснялось тем, что старых друзей Алана уже не было в живых, а эти знали его не так долго. Они пришли на похороны старшего товарища, с которым подружились незадолго до его смерти. Неужели их тоже пожрет пламя? Я не могла этого вынести. Я не могла слушать, как молодой любовник Алана поет «В саду», в точности как раньше Алан пел это для Феликса. Мы тихо ушли со службы, но никто нас не осудил: никто не знал, что мы там были.
Читать дальше