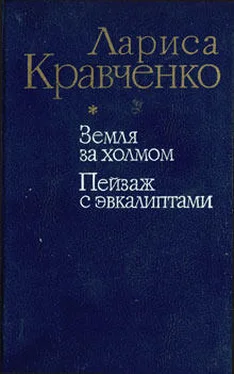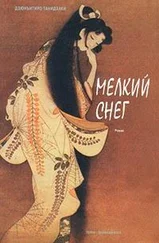Туман исчезал, и купол просвечивал голубым. И еще было состояние счастья, само по себе — от красоты Земли вне зависимости, кому принадлежит это. Общий «шарик» людей без границ и барьеров — в будущем человечества? Что же тогда понятие — родная земля? Планета? Пли тот камешек у порога, на который ступил ты, впервые шагнув из родительского дома? И нам никогда не уйти от этого…
Гармонию мира нарушал Сашка. Он прыгал с полотенцем по сырой кромке песка и орал на расстоянии: «Вылезай, ты с ума сошла — так долго! У нас в таком холоде не купаются! Пошли завтракать. За тобой скоро приедут!»
И это все. Все доброе с Сашкой кончилось в этой бухте Робинзона. Сашка не был виноват, и она не виновата — так получилось. И хотя достанется им еще перед расставанием два-три вечера с «Опера-хаус» и клубом «Мандарин», все будет уже не то.
Сиднейский вокзал, на конце Георг-стрит, возник слишком скоро по ходу машины, чтобы она могла разглядеть его — плоский фасад, похожий на облицованную плитами насыпь, и слишком рано, чтобы они могли закончить с Сашкой разговор, который шел у них в машине. Вернее не разговор даже, а крик, в стиле их прежних молодых разногласий, когда каждый мог говорить, что думает, невзирая на лица. И в этом был Сашка — весь прежний. Только он-то успел наговорить ей всего, пока они мчались в последний раз по Сиднею, замирая у светофоров и вливаясь в «экспрессвей», а она объяснить ничего не успела. Возник вокзал, и Анечка ждала их на тротуаре с плетеной проволочной тележкой для чемоданов.
— Ты огрубела там, в своем Советском Союзе! Ты забыла, что такое дружба! Это мы здесь сплочены и верны прежнему, а вы растворились там в большом народе и утратили тепло души! Разве я не прав? Неужели ты не могла сообразить, что последний вечер нам хотелось побыть с тобой дома, посидеть с мамой на кухне и почитать стихи! А тебя понесло к этим старикам, я тебе говорил, что это такая даль, и ты сама оттуда не приедешь! Какая глупость — ночью на электричке и на такси! Тебя бы запросто затащили в машину и увезли черт-те куда! Может быть, и не убили бы, но унизили, а потом выбросили! Ты забываешь, ты не у себя, в Советском Союзе! Мы же отвечаем за тебя, все-таки!
Сашка орал на нее, а ей не удавалось вставить слова, и как объяснить было, что все эти дикие две недели в Сиднее, когда ее возили, кормили и задаривали всем, что, по их мнению, было необходимо ей у себя в Сибири, она испытывала тяжкий груз благодарности, и словно разрывало ее изнутри это унижающее чувство неравноценности — когда-либо ответить им тем же, и ощущение обузы своей в доме, где наутро нужно хозяевам ехать на работу.
И кто, как не сам Сашка, составил ей расписание и вывозил в свет, как английскую королеву! Даже специальный блокнот для этой цели лежал у него в доме подле телефона!
— Сегодня ты едешь к Аверьяновым. Завтра, прямо из Сити, тебя забирает на два дня Юлька!
— Нет, она к вам не поедет! У нее уже всё, до последнего дня расписано! — отвечал он категорично на звонки знакомых и желающих. И еще: — Тебе нечего там делать. Это не нашего круга…
Как растолковать было ему, что те «старики», за которых он на нее обрушился, нужны были ей самой, как определение, права ли она была, что не дала уехать сюда родителям, а увлекла за собой на целину и в разворот теперешней ее, не очень благосостоятельной жизни? Потому что судьба родителей, окажись они здесь, могла быть схожа с судьбой этой семьи, кстати близких друзей отца, в той, уже вовсе давней его молодости Харбинского политехнического. Короче, это были люди «одного круга», как сказал бы Сашка. Но он просто не мог знать всего. Так же, как она не знала, что ему еще Надо было посидеть с ней тихий вечер дома и, может быть, сказать что-то главное, что он не успел во время ее гастрольного бега по Сиднею. Хотя уже и стихи ее были прочитаны на элегантной Анечкиной кухне и даже записаны на память посредством черненького японского магнитофона. Впрочем, была еще одна причина, почему ей захотелось пробыть последний вечер не в Сашкином доме, а у этих «стариков», никакими узами, кроме детской памяти, с ней не связанными… Но она не могла сказать об этом Сашке. Была причина, почему все доброе к нему, что сложилось за эти две недели, вдруг смешалось в клубок горечи и недоумения, и надо было дать этому отстояться, как замутившейся воде, в тишине.
. — Ты что такая расстроенная? — спросила Анечка, когда Сашка резво покатил тележку вперед на платформу. — Не обижайся на него, он же от пылкого сердца. Покричал и забыл. Ты же знаешь его…
Читать дальше