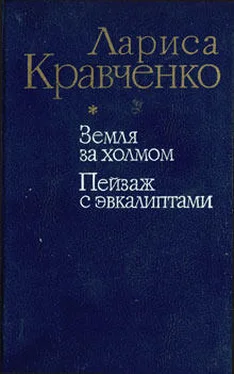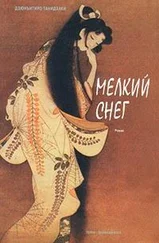И она подумала: если «тема Иуды» является одной из центральных в той христианской религии, что проповедует сей пастырь (даже осина, на которой, якобы, повесился предавший Иуда, вечно трепещет от проклятия!), как же тогда именно такое предательство — эта книжонка — берется церковью на вооружение? Или церковь тут ни при чем, а все дело в самом отце Александре?
Интересно, каков нынче перевод по курсу на доллары «тридцати сребреников»?
Журнал и книжонка обжигали ей руки. И она оставила их, уезжая совсем из Сиднея, в Сашкиной передней, на полочке у телефона…
…А пока — старый седой человек сидел с ней рядом на низком диване в доме священника и плакал.
— Сибирячка! — он говорил ей — Сибирячка — и пытался обнять и плакал снова. И хотя она вовсе не была подлинной сибирячкой, а «новоиспеченной», не опровергала этого, потому что для него она была приехавшей «оттуда», и совсем неважно, как она оказалась там и когда. Главное, что совсем только что она была там да еще знала его Сузун! И сейчас, сидя рядом на диване, он видел не ее, какая она сама, и даже не различал, молодая пли старая, и не узнал бы, встретивши снова. Он видел свой бор, золотисто-солнечный, сухой и звенящий, как скрипка, по осени, с резким скипидарным духом хвои, в шорохе редкого пожелтевшего подлеска, или в начале лета — влажный, сочный, зеленый, с оранжевым разливом огоньков в распадках, беловато-мохнатыми свечками, расцветающими на концах колких веток. И с зайцем, сидящим, как столбик, у края лесной дороги на песчаном бугорке. Или более всего запечатлен он в его сознании зимним — строгим, почти двухцветным, как на гравюре, когда на белизне снегов даже вечная зелень сосен кажется черным узором и ломятся ветки под тяжкими лапами снега — потому что такого нет и не может быть в Австралии (только в горах где-то, где не живут, а только приезжают на лыжный спорт те, кто имеет возможность, и где, по всей вероятности, ему нечего делать!). Или все проще — и ему видятся пестро-пегие коровы на кочковатом лугу в Сузунской пойме, в последний час дня, когда вот-вот они оторвутся от своей деловитой жвачки и отправятся по домам, медленным стадом втекая в улицы поселка. А закат лежит над сумеречным бором лиловыми полосами, и пласты то ли дыма, то ли тумана сединой затягивают пойму, и пахнет древесным дымом от растопленных печей. И русским хлебом…
— Боже мой! — сказал он почти сквозь зубы и пригнул к рукам свою большую лобастую голову (может быть, чтобы никто не видел лица его), и хрустели пальцы, сжавшие крохотный, с наперсток, туесок…
Что же с ним было такого, и что же такое он сделал, если не может быть там, а должен сидеть здесь, в душной ночи чужого города, где даже окна распахнуть не принято, в чужой квартире явно враждебного всей его русской сути человека? А где-то в соседнем Хомбуше или Стратфельде ждет его по-женски недовольная этим свиданием жена, которой ничего это неизвестно и не нужно и даже рассказывать невозможно, потому что у той позади свой оставленный какой-нибудь Триест с одной Адриатике присущими красками и запахами, до которой ему тоже нет дела…
Как же могло получиться такое? И, значит, он знает за собой нечто, что не позволило ему вернуться, потому что люди, которые не знали за собой ничего, возвращались и проходили все круги недоверия и утверждали свое право жить на своей земле… Бестактным казалось ей расспрашивать: как, что и почему? Только по отдельным его словам и фразам, что вырывались у него, в только ему понятной связи с происходящим, могла она сопоставить или угадать… Конечно, был плен. И бараки. Где-то в Баварии, и где он выжил, когда рядом не выживали его однополчане… И в составе части или команды (она не поняла) он дошел до Италии. И чем был отмечен его путь здесь — вольно или невольно выполняя приказы (видимо, выполнял, иначе не дошел бы…), он не сказал ей, она не могла спрашивать. И здесь, уже в конце войны, он попал к американцам. Снова были бараки для пленных, только повольнее и посытнее, по-видимому. И он опять оказался нужен, потому что умел делать все, что испокон веков умеет русский мужик — и сапоги тачать, и поварить. И еще, видимо, умел то, чему научила его немецкая школа выживаемости… И уже отсюда, из Италии, и не сразу, удалось ему уехать в Австралию… А почему не домой? Им говорили — их расстреляют на границе. Он хотел жить. Тогда — просто жить, после всех неживых, через которых ему довелось пройти… Оказалось, просто жить еще недостаточно. Люди, которые созванивались, чтобы устроить с ним встречу, говорили, что он пьет — горько и безнадежно, и ему нужно было пару дней — прийти в себя, чтобы встретиться с ней. Хотя дом — полная чаша. Деньги есть — руки всегда знали дело и не подводили его. И женщина любит, если живет с ним, терпит приступы пьяной его тоски. И что еще нужно человеку в бананово-апельсиновой Австралии?
Читать дальше