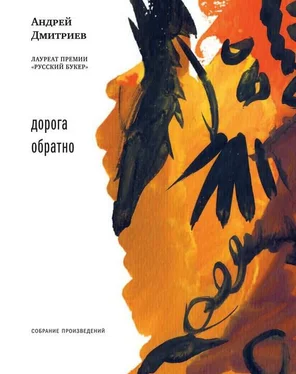Она умолкает надолго. Осмелев, гладит пса, и пес закрывает глаза, бьет хвостом по пыльной желтой хвое… Ничего ты не понимаешь, мстительно думает она, ты думаешь, мне было страшно, больно и все такое, а мне было не больно… И женщина вспоминает поиски денег, адрес на рваной бумажке, записанный незнакомым небрежным почерком, вечерний, продуваемый зимним ветром пустырь, через который она шла, проваливаясь в сырой хлюпающий снег; весело шла, без страха, и дикая мысль торопила ее шаги: я иду очиститься, время пришло, нужно лишь совсем очиститься, и потом будет все другое, новое, невесомое, — никакой глупости, никакой зависимости и покорности, будет весна, жизнь, будет лето, и можно будет идти через пустырь, ни во что не проваливаясь, по теплой пыли, хоть босиком, — упругим, легким уверенным шагом… Ее испугал лишь шприц с наркозом, ради которого и пришлось одалживать непомерные деньги: наркоз ей не делали никогда в жизни, и боязно было уснуть. «Что ты дрожишь, как овца», — сказал ей врач, и она уснула, а когда проснулась, когда врач помогал ей вдеть совсем, казалось, не ее, а чужие, непослушные руки в рукава пальто, — не понимала ничего вокруг, и вопроса «Тебя кто-нибудь встретит?» тоже не поняла. Помнила, что нужно идти через какой-то пустырь, где ветер обжигает лицо, брела на ватных ногах по тихому, темному микрорайону, пытаясь найти этот ветер, но он не встретился ей нигде. Я пьяная, я сильно пьяная, с горечью и удивлением говорила она себе, отшатываясь от сытых собак, роющих мордами желтые сугробы, и старательно улыбаясь их хозяевам, — дура я, это же просто неприлично, где я так набралась?.. И вдруг собаки, сугробы, люди с поводками, подъезды с битыми стеклами, окна с люстрами и занавесками — все куда-то провалилось; она оказалась в лесу, в снегу, и гигантская автострада, плюющаяся в небо острым светом, выла и свистела над головой. Она карабкалась вверх, обрушивая с насыпи мокрый снег, срываясь вниз, ругаясь и смеясь. На трассе ветер обжег лицо, она узнала его и успокоилась. Шла вдоль обочины, даже не пытаясь задуматься, куда идет. Она твердо помнила: у того, кто дважды бросил ее, — белая «Нива», была уверена, что белая «Нива» вот-вот догонит ее и остановится, и поэтому разозлилась, когда рядом с нею притормозил грузовой автофургон, отвернулась и выругалась, когда водитель высунулся из кабины и весело крикнул: «Тебя что, блядь, нужно уговаривать?..» Не простив водителю того, что он не позволил ей дождаться белой «Нивы», она угрюмо молчала всю дорогу, чем водитель вовсе не был смущен — болтал себе без умолку о чем-то лишнем и непонятном и, прощаясь, не взял с нее денег за проезд. Как только она оказалась дома, злость на водителя прошла, но разыгралась злоба на белую «Ниву» — не давала лечь в постель, гоняла от стены к стене жарко натопленной квартиры, изливалась визгливыми, путаными фразами из простуженного горла, а когда, наконец, удалось забраться под одеяло и заставить себя замолчать — сменилась ознобом, тошнотой и головокружением. Потолок, слабо высвеченный лучами уличных фонарей, темные стены комнаты, тени стульев и занавесок вращались, кружились, а потом, подобно детской юле, начали звучать тихой музыкой на одной долгой, невысокой ноте. К утру звучание юлы распалось на голоса, ворчливые, ноющие, лающие, брюзгливые, — они препирались друг с другом, им не было до нее никакого дела, и лишь один, особенно ясный и настойчивый, пытался к ней обратиться. Чье-то лицо, и близкое и чужое, склонилось над нею и, не позволяя себя разглядеть, лепетало. О чем-то этот лепет просил ее, в чем-то укорял, оберегал от чего-то, баюкал, — она не могла разобрать и уснула. Очнулась поздно, должно быть, после полудня, ясно вспомнила все, что с нею приключилось, — и вновь услышала лепет. Теперь она не сомневалась: так умеют лепетать только дети, и лепет не умолкал, силился что-то рассказать, сетовал, ныл, канючил, и она заплакала, принялась уговаривать его оставить ее, простить ее, больше не мучить, позволить ей вновь уснуть или умереть. Вглядывалась испуганно в знакомые очертания комнаты и не видела ничего, кроме стен, стульев и занавесок. Пыталась представить это невидимое, не желающее себя показать лицо, потом попыталась понять, из каких облаков или ям оно обращается к ней, лепечет и жалуется, — и в ужасе сорвалась с постели. Прошла в душ, там увидела, как тихонько струится вода из прохудившегося крана, послушала, как она лепечет, падая на эмалированное дно ванны, — и расхохоталась. Вызвала водопроводчика, кран перестал течь и лепетать, но тишина не принесла покоя, потому что была тяжела. Казалось, свет и воздух пустой квартиры образовали плотную, вязкую взвесь: она давила со всех сторон, теснила дыхание, мучила зрение, и нелегко было пошевелить рукой, чтобы налить себе чаю, еще труднее — заставить себя этот чай проглотить, трудно было повернуть голову к обычно спасительному книжному шкафу, не легче — прочесть надписи на переплетах… Плохо дело, подумала она отрешенно, стараясь не дать воли страху, я совсем плоха, я схожу с ума, как золотая рыбка, — эта нелепая рыбка удивила ее, развлекла, не шла из головы до тех пор, пока она не вспомнила горячий июль, рослого негра, который шел по проспекту Вернадского на чудовищно высоких каблуках: каблуки были прозрачны, и в каждом из них, в какой-то густой воде или глицерине, плавало по маленькой золотой рыбке.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу