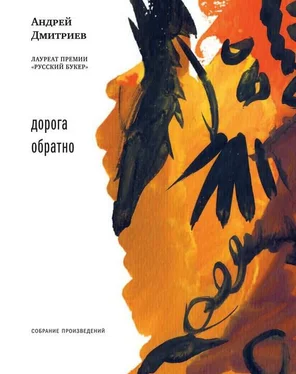— Это не он! — удивленно выкрикнул Серафим. — Совсем не он!.. Весь в наколках — это не он; я не пойму, как вам такое могло прийти в голову? За кого вы его тут все принимаете?.. — победно и злобно смеясь, Серафим оглядел собравшихся вокруг стола: двое в милицейской форме, один в штатском костюме, двое в белых нечистых халатах — они, казалось, не были удивлены, даже не переглянулись меж собой, и Серафим задохнулся: — Вы!.. Вы знали и без меня, что это — не он!.. Знали, а меня сюда привели… Зачем привели? Зачем вам это было нужно, сволочи?..
— Попрошу вас успокоиться. И возьмите себя в руки, — с мягким нажимом перебил его человек в штатском костюме. — У нас были сомнения… Теперь сомнений нет: это не он.
…Какой ужас, бормотал, сиротливо оглядываясь, всю дорогу из морга домой Серафим, преследуемый запахом формалина и, как казалось ему, торжествующими взглядами прохожих; какой ужас, повторял он, глядя себе под ноги и все равно спотыкаясь, все равно попадая ботинками в лужи с расквашенной осенней листвой; какой ужас, твердил он без страха, с одной лишь печалью с тех пор каждый день — раскрывая «Курьер» или глядя на то, как шелестят, подобно пустому хитину умерших насекомых, рекламы и вывески «Деликата» на первом, без снега, морозном зимнем ветру… В его доме стал часто звонить телефон, молчавший доселе по целым неделям. «Нельзя ли позвать Ионушку ?», «Позовите Иончика », «Можно Иошу ?» — щебетал, чирикал и пел то один, то другой, одинаково беспечный и праздничный женский голосок. «Попрошу Иону Серафимыча», «Иона у вас?», «Передайте Ионе, чтоб позвонил… ну, он сам знает кому», — одинаково угрюмо и деловито бубнили в трубку самые разные мужские голоса… Выходя из дому или глядя в окно, Серафим все чаще видел машину, праздно стоящую невдалеке, с одинаковыми бритыми людьми в салоне, — они всегда курили, пуская дым поверх опущенных стекол, всегда бесстрастно глядели на него своими маленькими сонными глазами поверх черных очков… Не выдержав, он позвонил в милицию, потребовал убрать этих людей и услышал в ответ сочувственные вздохи:
— Это не наши люди вас пасут; это серьезные люди… Если уже и они взялись за Иону Серафимовича, то найдут его хоть в Африке, хоть на Марсе. Ему теперь осталось одно — явиться к нам, и мы убережем… Так и передайте ему при случае.
Когда Серафим выходил из дому, машина с серьезными людьми не покидала своего поста и не пыталась проследить его маршрут, из чего он заключил: кто-то другой непременно идет за ним по всем маршрутам; он даже слышал иногда мягкий и упругий звук его шагов, не похожих на неряшливые шаги обыкновенных прохожих, — резко оборачивался, страшась и надеясь встретиться с ним лицом к лицу, или хитрил, завязывая шнурки и глядя назад из-под руки; ни разу не видел преследователя, но не успокаивался, напротив — убеждал себя в опытности и неумолимости этого, обычным глазом не уловимого человека. В его уверенном воображении этот человек был совсем таким же, каким предстал впервые много лет назад, возле диспансера на Салтыкова-Щедрина, — в той же шляпе, в том же туго перетянутом черном плаще, с тем же страшноватым даром исчезать за спиной неизвестно куда, неизвестно в какую калитку.
В мае, в полдень, в затишье, наступившем после праздничной декады, когда улицы города почти обезлюдели и базарная площадь была пуста, Серафим наконец увидел его. Серафим шел с базара, зажав в руке два пучка редиски. Человек в черном плаще отделился от столба автобусной остановки и пошел за ним, не таясь от него, но и не поднимая глаз, прикрыв лицо полями шляпы и соблюдая дистанцию в двадцать с небольшим шагов. Серафим повеселел. Проверил, нет ли ошибки: свернул на Пятницкий, оттуда на Помяловского, затем без видимой цели направился в противоположную сторону, к реке, — человек шел и шел за ним, держа дистанцию в те же двадцать с чем-то шагов, шел спокойно, лишь когда Серафим пошел берегом к центральной набережной, где сидели на лавочках, подремывая на весеннем пригреве кое-какие люди, он замешкался, даже головой покачал… Боишься, нервно хмыкнул про себя Серафим, не любишь выходить из тени, но и не отстаешь; видать, не велели тебе выпускать меня из виду. Что ж, погуляем. Поглядим, надолго ли таких, как ты, хватает. Не знаю, предупредили тебя или нет, но я, братец ты мой, пешеход со стажем.
И Серафим перешел на походный шаг.
Он таскал черный плащ за собой кругами, расширяя круги и уводя его к окраинам: вел аллеями Нахимовского сквера, где осиротевшие лошади Ионы зарабатывали себе на овес катаньем детей и гуляк и в этот день напрасно поджидали седоков, вел дворами, мимо поленниц, помоек и трансформаторных будок, вел шпалерами сиреней, акаций и смородин и лабиринтами развешенного белья, вел огородами, садами, шанхаями сараев и гаражей, вел переулками, вел зияющими коридорами и комнатами сквозь полуразрушенные, подлежащие сносу дома, вел замусоренными зарослями молодой крапивы на задворках вокзальных пакгаузов, — к вечеру вывел за город, на ветреный простор полей, и здесь, в пустых полях, испугался, перестал оглядываться на черный плащ, вжал голову в плечи и, как мог, ускорил шаги. Человек за спиной тоже ускорил шаги, и звук его шагов стал спотыкающимся, дробным, как при суетливой побежке; Серафим с трудом заставил себя не побежать; чужое дыхание за его спиной участилось; человек шел уже рядом, стараясь идти с Серафимом в ногу, он тяжело дышал возле самого уха, а Серафим все не решался на него поглядеть.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу