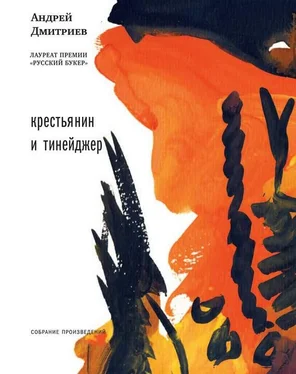«…Тетка Мария была славный человек, я ее помню хорошо. Она вообще первый человек, которого я помню, — писал Стремухин мне в своем письме. — Она взяла к себе сестру с младенцем, то есть со мной, и, будучи влиятельной, сумела прописать нас у себя на Беговой. Так мы и жили все втроем. Тетка помогла матери устроиться в районную библиотеку. Еще у тетки была дача в Мамонтовке. Мать с теткой меня сильно баловали, что привело меня к хроническим проблемам с успеваемостью и поведением. В итоге, не меняя места жительства, я поменял четыре школы. Одна была на Беговой, другая — на Кутузовском проспекте, третья — на улице Расковой, четвертая, последняя, наша с тобой, NN, — на Масловке. Тетка Мария заболела, видимо, набрав рентген, и умерла, когда меня как раз отчислили из третьего класса школы на Беговой. Квартира, дача — все досталось нам».
Стремухин рано женился и переехал жить к жене. Мать осталась на Беговой одна. Ее отношения с невесткой не заладились; Стремухин, пока был женат, с матерью виделся редко. Когда развелся, мать настояла, чтобы он и впредь жил от нее отдельно:
«…Она сказала мне, что я иначе не смогу устроить свою жизнь. Продала дачу в Мамонтовке, построила мне кооператив на Одесской. Сейчас, читая ее письма той поры к отцу, я все сильней склоняюсь к мысли, что она все-таки надеялась: отец приедет к ней на Беговую, они останутся совсем вдвоем, и больше никогда никто не будет им мешать. Возможно, он и приезжал потом на Беговую, но в письмах нет на это ни намека».
Дальше Стремухин рассказал мне о похмельном утре в Бухте — этот рассказ я и воспроизвел задним числом в своей истории Стремухина:
«…В то утро, глядя на воду и мучаясь похмельем, я вспомнил вдруг другую воду… Мы с матерью ждем на реке прибытия парома, и к нам подходит незнакомый человек. Он раздевается зачем-то, прыгает в реку и ее переплывает. Ты представляешь, я, как вспомнил, сразу понял: это мой отец. К чему я это здесь рассказываю? К тому, NN, что тем похмельным утром во мне был, видимо, запущен какой-то новый механизм памяти. Теперь я, вспоминая детство, то тут, то там стал обнаруживать рядом с собой отца. Сначала вспомнил, как мне рвали зуб. Не помню, сколько уж мне было лет, но боль ту помню. Мать взяла такси, чтобы везти меня к зубному. В такси с нами ехал посторонний человек. Он мне сказал, что он приезжий, и что ему с нами по пути. Он всю дорогу успокаивал меня, чтобы я не боялся зубного. Я помню его смутно. Но, помню, был он кряжист и носил очки. И я теперь не сомневаюсь: это был отец, зачем-то оказавшийся в Москве. Еще я помню, как мы с матерью однажды летом отдыхали в Махачкале. Мы каждый день торчали на каспийском пляже и каждый вечер шли в городской кинотеатр под открытым небом. Там каждый вечер мы смотрели один и тот же фильм. Он был иранский и назывался он „Мазандаранский тигр“. Фильм был про то, как деревенский парень полюбил богатую девушку, но из-за бедности не мог на ней жениться. Тогда он стал великим борцом по прозвищу „Мазандаранский тигр“. Всех победил на борцовском ковре и соединился с возлюбленной. В Махачкале тогда был всюду культ вольной (или классической, я в этом мало разбираюсь) борьбы. И потому зал под открытым небом был переполнен каждый вечер. Помню, под черным южным небом летали мыши, и тени их метались по экрану. И каждый вечер к нам подсаживался один и тот же человек, не местный, тоже отдыхающий. Он перебрасывался с нами обычными приветствиями, потом еще двумя-тремя обычными словами, потом фильм начинался, и он молча с нами смотрел его сквозь толстые очки. Я потому его запомнил, что в городе вдруг обнаружили холеру, и этот человек помог нам выбраться из карантина. Он вызвался помочь, довез нас на такси до двух шлагбаумов; там еще кольца были из колючей проволоки. О чем-то долго, помню, говорил с солдатами, с людьми в белых халатах поверх военной формы. Отдал им какую-то бумагу. Нас пропустили, он остался. Помню, рукой нам помахал из-за шлагбаума. И я еще у матери спросил: „А как же дядя?“. И мать сказала мне, что это очень добрый дядя. Он отдал нам свой пропуск, и потому был вынужден остаться в карантине. Мать мне сказала: „Ты о нем не беспокойся. Надеюсь, у него все будет хорошо“. Потом она отвернулась от меня и стала смотреть на дорогу, на убегающее море, на столбы».
Дальше Стремухин признавался, что иногда ему бывает страшно из-за чудовищных сомнений: вдруг он неверно понимает свою память? Вдруг рядом с ним во всех тех памятных событиях, которых вспоминается теперь день ото дня все больше, был не его отец, но кто-то был другой, а то и вовсе были разные, случайные люди? В одну такую трудную минуту он мне и написал то, первое, письмо, о чем теперь, конечно, сожалеет.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу