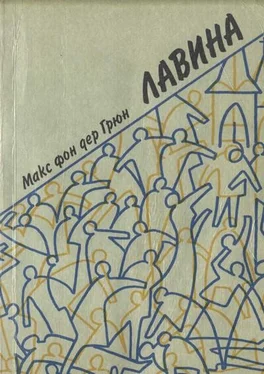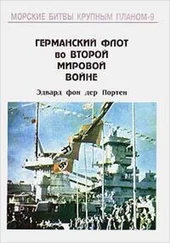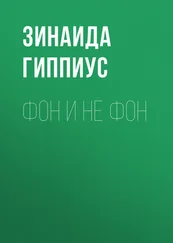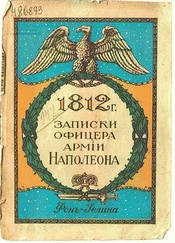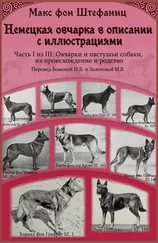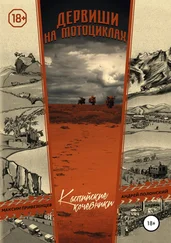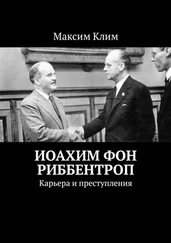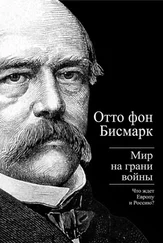Фон дер Грюн верит, что рабочие, осознав себя — не без колебаний, недоверия и сомнений в первое время — хозяевами своего завода, будут работать не за страх, а за совесть, пойдут на некоторые материальные жертвы, а при умелом руководстве — свои Шнайдеры найдутся на каждом предприятии — и при поддержке технической интеллигенции, таких лучших ее представителей, как главный инженер фирмы Адам, преодолеют все трудности и сумеют удержаться на рынке. Характерно в этой связи, что фирма Бёмера в «Лавине» имеет прочные позиции на неисчерпаемых «восточных рынках» — в Советском Союзе и других социалистических странах Европы, которые считают ее надежным и выгодным партнером. Представляется весьма важным, чтобы рабочие западноевропейских стран и их политические отряды именно с таких позиций подходили к новым перспективам, которые перестройка в Советском Союзе открывает перед международным разделением труда.
И все же, несмотря на приближенность к действительности, модель Бёмера, вернее, самого фон дер Грюна пока остается в условиях Запада явной утопией. Оптимистическая нотка, на которой заканчивается роман, не убеждает. Отдельные предприятия типа фирмы Бёмера, даже будучи переведены в коллективную или кооперативную собственность с рабочим самоуправлением, не выдержат массированного давления капиталистической экономики. Она поглотит их, как океан — вулканические островки, и даже в маловероятном случае выживания такие «рабочие фирмы» будут в итоге отличаться от своих частнокапиталистических соседей так же, как отличаются от них немногие государственные, лишь по названию, предприятия в той же ФРГ, или переродятся в уродливые формы «народного капитализма», сводящиеся к рассредоточению небольшого пакета акций в руках рабочих и мелких служащих, которых это, конечно же, не превращает в «совладельцев».
Кстати сказать, в экономике ФРГ в прошлом действительно был случай, подобный описанному в «Лавине»: предприниматель-марксист Порст, владелец известного и в свое время процветавшего концерна «Фотоквелле», передал свой капитал коллективам производственных и торговых предприятий, сделавшись их платным генерал-директором. Конец известен: фирма не выдержала мощного давления конкурентов, боровшихся против нее не только с экономических, но и с классовых позиций, перешла в чужие руки, сохранив лишь старое название, а сам Порст был предан остракизму своими бывшими собратьями за «ренегатство». Единственной успешно действующей в ФРГ подлинной моделью коллективной собственности является, насколько замечено, редакция влиятельного гамбургского еженедельника «Шпигель» — товарищества на паях, большая часть капитала которого принадлежит сотрудникам журнала. Но «Шпигель» — не промышленная фирма, а высокооплачиваемых представителей журналистской элиты уж никак не сравнишь с рабочими фабрики Бёмера.
«Лавина», конечно, социальная утопия, но утопия крайне актуальная. Новые силы в руководстве западно-германской социал-демократии, «внуки Брандта», как их называют, разрабатывают сейчас стратегию своего возвращения к власти. Быть может, широкие эксперименты с новыми коллективными формами собственности, которые с такой страстью пропагандирует в своем романе фон дер Грюн, в сочетании с созданием новых рабочих мест в «экологической отрасли» и с партнерством с социалистическими странами все же открывают здесь определенные перспективы. Так или иначе, многие представители левого в широком смысле слова политического лагеря в ФРГ хотели бы в это верить, и социальная утопия фон дер Грюна в обличье современного «общедоступного романа» способна укрепить их в этой вере, а заодно заставить задуматься над новыми историческими путями и простых людей в ФРГ. Это безусловная заслуга автора, объясняющая тот живой и неподдельный интерес, с которым «Лавина» была встречена в ФРГ.
В заключение хотелось бы вернуться к затронутому выше вопросу о том, чем особо интересна и поучительна для нас утопия фон дер Грюна. Прежде всего ясно, что раздумья видного рабочего писателя Запада о формах коллективной собственности на средства производства и рабочем самоуправлении не могут не вызвать у нас самого живого и благожелательного отклика, особенно сейчас, в период перестройки. Но это далеко не все. Я уже упоминал выше о проблеме оптимального соотношения между экономической эффективностью и мерой социальной защиты, проблеме, которая также поставлена в романе фон дер Грюна.
Читать дальше