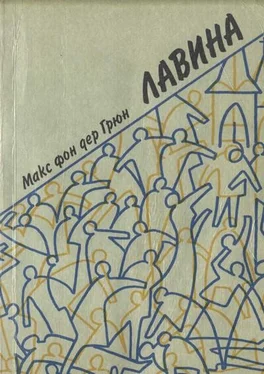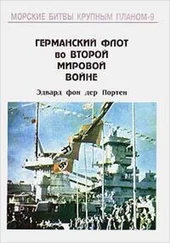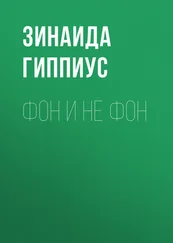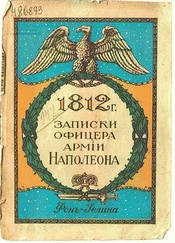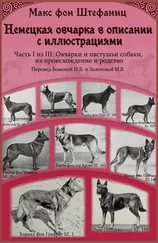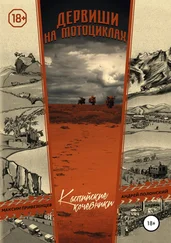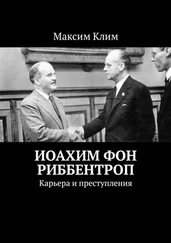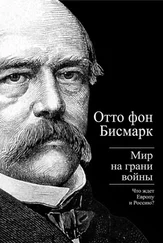— Хорошая идея, — сказал Хётгер. — Я — за. Но если уж строить, то с размахом, чтобы там поместились все пятьсот человек.
— Полностью разделяю твое мнение, — сказал, улыбаясь, Шнайдер.
Предисловие, как представляется, — это своего рода «инструкция по восприятию» книги, с которой читателю предстоит познакомиться. Нередко — особенно для зарубежных или не слишком широко известных авторов — оно является и «литературной визиткой». Послесловие — это прежде всего беседа с читателем, только что перевернувшим последнюю страницу романа, попытка предугадать его впечатление, поделиться с ним собственными мыслями и чувствами, вызванными книгой, ответить на вопросы, которые могли у него возникнуть.
Макс фон дер Грюн в Советском Союзе хорошо известен — пожалуй, не меньше, чем у себя на родине в ФРГ, и наверняка больше, чем в Западной Европе и в США. Вот уже более 20 лет его романы регулярно переводятся у нас, появляются и в журналах, и отдельными изданиями, обсуждаются, комментируются. «Светляки и пламя», «Люди в двойной ночи», «Жар под золой», «Местами гололед» и другие романы фон дер Грюна давно уже занимают почетное место на полках наших библиотек — публичных и частных.
Еще бы! Макс фон дер Грюн — единственный в ФРГ крупный писатель, которого без каких-либо оговорок и с полным правом можно удостоить эпитета — «рабочий». Несмотря на свою звучную аристократическую фамилию, фон дер Грюн пришел в большую литературу в буквальном смысле слова из угольной шахты. Солдат-десантник на Западном фронте в последние годы войны (фон дер Грюн родился в 1926 г.), он, вернувшись из американского плена, стал простым рабочим, сначала каменщиком, потом шахтером в Руре. В забое проработал долгих 13 лет, хотел стать штейгером, помешала тяжелая травма, полученная во время аварии под землей, переучился на машиниста шахтного электрокара и так и «въехал» на нем в литературу. Редкий на Западе, да и у нас не частый случай, когда одаренный писатель добивается успеха и признания, не имея не только законченного образования, но и каких-либо семейных «корней» в писательской среде. Этот выходец из обедневшего дворянского рода — настоящий рабочий.
Классового сознания Максу фон дер Грюну не занимать. Он с первых же написанных им строк во всеуслышание заявил, что считает капиталистическую систему несправедливой и давно уже созревшей по меньшей мере для радикального переустройства, что сытая и благополучная жизнь в ФРГ — это лишь фасад, а относительно высокий уровень жизни западно-германских тружеников, имеющих работу, но рискующих ее потерять тем быстрей и безвозвратней, чем старше они становятся, отнюдь не избавляет общество от социальных язв. «Заявил» — это, конечно, метафора, литературно-критический штамп, если угодно. Грюн не политик, а писатель-романист, чей голос слышен только тогда, когда читают его книги. А романы фон дер Грюна простые труженики в ФРГ чаще всего читают не отрываясь, на одном дыхании.
Не приходится особо говорить о том, что писатель, прошедший первую политическую школу в «производственном совете» — то есть низовой профсоюзной организации своей шахты, — с самого начала определил и свою политическую позицию: он тяготеет к левому крылу СДПГ, коммунистов не только не чурается, но относится к ним с явной симпатией, считая лишь, что при существующей в ФРГ системе и антикоммунистической заданности общества у них пока нет шансов. Но в основном и главном — в том, что капиталистическая форма собственности бесчеловечна и при всей ее экономической эффективности должна быть коренным образом преобразована, а может, и ликвидирована, — у Грюна с коммунистами нет разногласий. Он убежденный и непоколебимый социалист.
Естественно, что его книги быстро нашли путь и к нашему читателю. Спору нет, фон дер Грюн — писатель, близкий нам по духу и в ФРГ весьма популярный; но именно этот новый роман вроде бы не лучший из написанных им. С виду — средненький «триллер», не слишком захватывающий, даже убийство тут на поверку не убийство; главная жертва предпринимательских интриг — заводчик Бёмер — образ малоправдоподобный; откуда у него столько дальновидности, понимания рабочих нужд и пороков капитализма? А уж его адюльтер с юной Матильдой Шнайдер, бывшей рабочей девчонкой, дочерью профсоюзного вожака на его заводе, словно взят напрокат из американского «литературного ширпотреба».
Правда, это не слишком-то страшные ужасы, сцены «сладкой жизни» развертываются на вполне реальном фоне, противоречия современного капитализма в такой развитой и зажиточной стране, как ФРГ начала 80-х годов, вскрыты в книге убедительно и с подлинным знанием дела. Но все же трудно уйти от вопроса: а могут ли в произведении мирно уживаться столь разноплановые и, казалось бы, несовместимые жанровые линии, не умаляя тем самым художественных достоинств этого литературного произведения?
Читать дальше