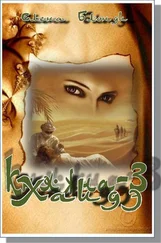Она не покачала головой, отрицая свои возможные слова и просьбы насчет отъезда. Вместо этого спросила с жаркой надеждой, поднимая к груди темные на белом кулаки:
— Ты, правда, можешь остаться?
Он развел руками.
— К сожалению, нет. Дела. И тебе ведь в школу, первая неделя сентября.
— Я не ходила бы. Если ты…
— Нет, Инга. Но зато у нас с тобой, ночь сегодня, целый день завтра. И еще ночь. Последняя. Давай не будем расставаться все это время? И я сделаю столько, сколько успею.
Темные кулаки раскрылись и легли на стол. Инга опустила лицо, глядя на вазочки с растаявшим мороженым, и снова подняла.
— Как же, ночью? А Вива? И потом, это где будет? Ко мне никак нельзя, Вива нас услышит. Наверное. И к тебе тоже нельзя, там теть Тоня. Ты уедешь, а она будет тут. Рассказывать всем.
Он постукал пальцами по теплому пластику столешницы.
— Но ты согласна? Если я тебя украду, ночью? Ты ляжешь спать, скажешь Виктории Валерьяновне спокойной ночи. А твое окно выходит на склон, так?
— Петр. Я не смогу ей соврать, — в голосе девочки звучала усталость, — я же тебе говорила.
— И не надо. Ты просто промолчи. А если спросит, ну что же, значит не судьба Петру Каменеву написать прекрасную картину, которая ему спать не дает уже неделю.
— Правда, не дает?
Он еле заметно передернул плечами. Было в этом что-то такое, такое сладко и противно тянущее нутро, новый смысл, который проявлялся в обычных бездумных словах. Правда, не дает? Правда? Новый старый утерянный смысл. Слово «правда» для нее значит правду. Охренеть. И он, глядя в полное тревоги и надежды лицо, с наслаждением торжественно солгал:
— Правда!
И с таким же торжествующим наслаждением, будто доказывая что-то мирозданию, смотрел, как сказанная им ложь заставляет смуглое лицо расцветать неудержимой улыбкой.
«Вот ложь… А что будет, если я сейчас скажу ей — правду? О том, что не люблю и что использую, крутя в руках и обдумывая, как бы успеть до отъезда выжать побольше, для себя. О том, что могу, не прикладывая особенных усилий, сорвать ее с места, вынудить полететь в столицу и там служить мне, пока не иссякнет эта дивная сила, которую она привезет с собой. Как изменится ее лицо — от правды? И разве я буду виноват, ведь скажу — правду!»
Инга кусала губы, обдумывая то, что сказал. Он художник, он мучается, пока рисовал свои этюды, так много рассказывал ей о том, как нелегко ему, о кризисе, о поисках. И как помочь? Могла бы, все отдала, лишь бы у него все наладилось. Конечно, она убежит ночью из спальни. Можно просто поговорить с Вивой, но после той беседы насчет Горчика, Инга вдруг поняла, ее безропотная бабушка уже на пределе. Вдруг она просто запретит? Если бы Инга делала это для себя, но страдает Петр, ему нужно помочь.
— Я выйду, — сказала она, — и не буду говорить с Вивой. Мне только до света надо вернуться, чтоб ничего ей не объяснять. Она поздно встает, но когда светло, меня увидят, понимаешь? Так что я могу до четырех, наверное, утра. С тобой. И сегодня. И — завтра.
— Ты моя героиня, Инга, храбрый цыпленок. Чудесно.
Он хотел еще говорить, но вдруг замер, увидев внутри себя — ее, эту картину, о которой наспех придумывал. Сбитые простыни на постели, окно, цедится через виноград зеленый утренний свет. И смуглая фигурка, обрисованная этим зеленоватым светом, сидит, поджав ноги и опираясь на руки, подалась вперед, глядит на невидимого зрителю мужчину, что конечно — уходит, не остается, с ней, такой еще маленькой, с вырванным сердцем. Темное, полное страдания лицо, глубокие глаза, следящие за уверенными шагами (одевается, приглаживает волосы, стряхивает с рукава перышко), груди, чуть некрасиво повисшие от того, что ссутулены плечи. Взгляд исподлобья и сильно прикушенная пухлая губа.
Если сумеет, выйдет шедевр. Надо суметь!
— Что?..
— Я говорю, я не знаю, где. Только если ты найдешь, наверное, сегодня уже не получится, — она говорила виновато, перебирая край платья пальцами.
Музыка играла тихо, вокруг топтались парочки, покачиваясь, как на палубе.
Медленно, в такт музыке к Инге пришло воспоминание о недавнем. Узкая пустая комната, скрытая от всех. Кроме Сережи Горчика, у которого есть ключи. Который друг. Он обязан понять, если она попросит, скажет правду о том, для чего ей. И что очень-очень нужно. Для Петра. Для его картины.
Она открыла рот, а горячая краска кинулась в лицо, заливая скулы и шею. Но не успела, с облегчением обмякая на легком стуле.
— Почему же не получится, — раздумчиво проговорил Петр и вдруг встал, нетерпеливо жестом поднимая и ее, — ну-ка, пойдем.
Читать дальше