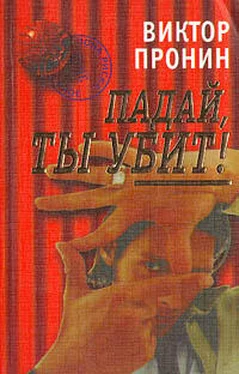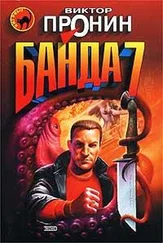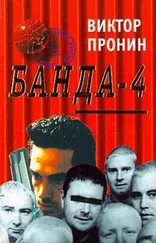— Я и не знал, что у тебя есть вино! — возмущенно ответил Адуев. — Откуда мне было знать... Вот и Марсела подтвердит. Сюда мы приехали на электричке... Часа полтора назад сошли с поезда на Курском вокзале... Что-то ты, Илья путаешь, — и Адуев величественно прошел в калитку. Вслед за отцом с неестественно распрямленной спиной двинулась его дочь. Девушка она была рослая, профиль имела гордый, даже с некоторой внушительностью в области носа, улыбалась не то чтобы неохотно, а с разбором. Просто так улыбками не одаривала, ценя свое расположение к кому бы то ни было. А кроме того, она находилась в том возрасте, когда девушки, одолеваемые пробуждающимся воображением, остерегаются улыбаться, полагая, что их улыбка говорит о немедленном согласии на невесть что.
Говоря о юной Марселе, необходимо подчеркнуть еще одно обстоятельство — она подозревала, что именно в этот момент где-то рядом стрекочет направленная на нее кинокамера, причем заправлена она цветной пленкой, скорее всего импортной, которая прекрасно передаст цвет лица, блеск умных глаз, высокую шею, на которой, конечно же, трепещет солнечный зайчик. Эта милая уверенность накладывала отпечаток на все ее слова, жесты, передвижение в пространстве, поведение за столом. Она постоянно и беспрерывно снималась. Да и в Москву Марья-Марсела приехала, чтобы поступить в институт кино. Решение Иван Адуев принял дальновидное — поступать Марсела будет на экономический факультет, где конкурс гораздо меньше, а потом, когда проникнет внутрь сказочного мира, когда проберется в институт и обоснуется там, вот тогда, тонко мыслил Иван, мы уточним ее способности, ее будущее. Думая так, он щурился, будто видел перед собой врага сильного и опасного, но которого он, Иван Адуев, нисколько не боялся.
— Ишь, обосновались, — ворчал Адуев, продираясь сквозь боярышник, и его литая голубоватая спина становилась похожей на клочок неба, мелькнувшего среди ветвей. — Живут же некоторые... Неужели к угощению попали...
— Похоже, на угощение рассчитывать не приходится, — заметила Марсела, глаз у которой был пристальнее и острее — она уже видела пустоватую террасу, одинокую горку вареной картошки на столе.
— Простите, мадемуазель, — живо подхватил Ошеверов. — Вы что-то про угощение?
— Да нет, ничего. Это я так... Про себя.
— А, про себя... Тогда ничего. А то я уж подумал было, что про меня. А про себя каждый может выкладывать все, что ему заблагорассудится, — и взбежал по ступенькам. — Митька! Принимай пополнение. Гости приехали, жрать хотят, угощение требуют!
— Она имела в виду «про себя» — значит, негромко, то есть говорила не для кого-то, а для себя, — пояснил Адуев оскорбленно. — Русский язык позволяет...
— Русский язык позволяет мне понимать сказанное так, как я того пожелаю, — Ошеверов не принял адуевских объяснений. — Тут у меня в машине кой-чего завалялось, — сказал он, устанавливая канистру посредине террасы. — А то некоторые жалуются, отощали, мол, в дороге, животы у них подвело, хотя животы приличные! — Ошеверов быстро глянул на живот Адуева. — Духовной пищей питаться надо почаще, духовной!
— Приятно, когда так говорит водитель грузовика, — заметил Иван. — Растем. Это всегда радует.
— Водитель грузовика еще много чего может сказать, но, боюсь, не все тебя, Ванька, будет радовать. — Ошеверов захохотал. — Но все равно... Человек, который многократно вынужденно всплывал и погружался, зарывал голову в песок, дышал в болоте через соломинку, отстреливался из общественного туалета — для меня святой человек! — Ошеверов церемонно склонил голову. И хотя слова его были шутовскими, Адуев покраснел от удовольствия. Ему настолько нравилось, когда отмечали какие-либо его достоинства, что он простите, глупел прямо на глазах. — Все еще бегаешь? -спросил Ошеверов.
— Да, — кивнул Иван с достоинством. — Каждое утро по пять километров вдоль набережной. Босиком. В любую погоду.
— Долго жить будешь, — одобрил Ошеверов. — И помрешь здоровеньким. Молодец. Но я имел в виду другое... Ты все еще бегаешь к той кудрявой красотке? — последний вопрос он задал, понизив голос, чтобы не слышала Марсела.
Адуев оскорбленно поджал губы и отошел к Шихину пообниматься, потом направился к Вале, обошел всех гостей, но описывать это так скучно, что Автор, сжалившись над читателем, выбросил не то три, не то четыре страницы, на которых описывалось вживание Адуева и его дочери Марселы в сложившийся коллектив гостей. Будем считать, что они вжились, всех облобызали и вручили Шихиным гостинец на новоселье — скатерть. Ошеверов тут же постелил ее на стол, расставил стаканы, разлил в них вино и, конечно, плеснул на скатерть, но этого никто не заметил, кроме Адуева. В этом маленьком происшествии он увидел пренебрежение к себе и обиделся, что, впрочем, никого не удивило, поскольку все знали — в Адуеве постоянно живет не та, так другая обида, а то и по нескольку сразу. А если говорить о Вале, то она была даже рада тому, что залежалый подарок из семейного гардероба Адуевых оказался оскверненным или освященным в первые же минуты своего пребывания в этом доме. И были тому причины, о которых знали Автор, Валя и сам Адуев.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу