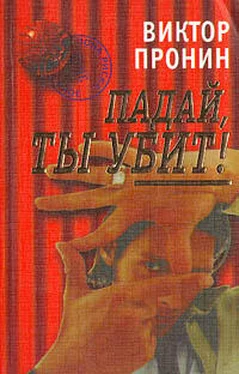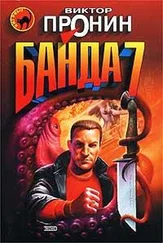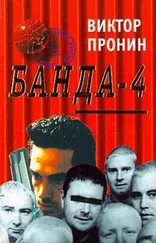И не потому, что считала старика горьким пьяницей, нет, просто не знала другого обращения с мужчинами и искренне полагала, что другого обращения не существует. Она родилась, выросла и собиралась помереть в коммунальной квартире большого дома рядом с проходной металлургического завода, а потому не будем судить ее строго.
— Ну что... Будем живы? — спрашивал Шихин.
— Ага... Будем... Постараемся, — не столько говорил, сколько кивал Кузьма Лаврентьевич и затаенно разливал вино в стаканы. Губы его при этом вытягивались, словно он хотел сказать что-то отчаянно-бесшабашное.
А уехал он неожиданно. Выстирал единственную свою клетчатую рубаху, штаны выстирал, а пока сохли они в саду на веревке, прятался в темном углу под одеялом. Наварил прощального борща, по своему обыкновению настолько полную кастрюлю, что даже крышку сверху нельзя было положить, сходил на станцию за вином, дождался Шихина из Москвы. Долго ходил по дому, маялся, все порывался что-то сказать, но не решался. И лишь когда все собрались за столом, самовольно, не спросясь, выставил бутылку.
— Это... Уезжаю.
— Как? — удивился Шихин. — Когда?
— Пообедаем и это... Пора.
— Чего ж раньше не сказал?
— Да вот... Сказал.
— А куда торопиться? Лето впереди, а? Кузьма Лаврентьевич?
— Не знаю... Степановна велела возвращаться... Да и сам чую — пора. Как-нибудь еще приеду... Чего не бывает.
Шихин проводил его до станции, растолковал, как в Филях на метро пересесть, как до Киевского вокзала добраться. Попытался было старика до поезда довезти, но тот отказался.
— Не... Не надо. Мне так лучше. Спокойнее. Ни к чему тебе со мной показываться... — А уже на одинцовской платформе отвел Шихина в сторонку и сказал негромко: — Ты это... Много говоришь. Нехорошо это. Один написал, второй напишет, третий... А там ищи-свищи. Оно в жизни все бывает... Приходит, уходит, опять приходит... Ждешь одного, появляется другое... Не угадаешь. Думаешь, все кончилось? Митя, — он, кажется, первый раз назвал Шихина но имени, — Митя, — старик подергал его за рукав, не зная, как еще придать значение своим словам, — Митя, это... Понял?
Подошла электричка, с недобрым шипением распахнула двери, Кузьма Лаврентьевич шагнул в вагон, обернулся, тяжело поднял руку, тут же уронил ее и, надо же, вытер слезы Только сейчас Шихин увидел, что старик плачет чуть ли не навзрыд. Опять раздалось шипение, двери захлопнулись, и вагоны, набирая скорость, унеслись в сторону Москвы.
Шихин проводил взглядом электричку, сел на теплую скамейку и долго сидел, глядя в асфальт у себя под ногами. Потом вынул из-под скамейки две пивные бутылки, придирчиво осмотрел — не надколото ли горлышко, нет ли трещин, сунул их в авоську, с которой не расставался, и пошел к дому.
И сегодня, вспоминая, какой провожал Кузьму Лаврентьевича, Шихин видит себя, медленно бредущего но не существующим уже одинцовским тропинкам к своему не существующему уже дому, и позвякивают у него в авоське две целехонькие бутылки из-под пива. Из-под не существующего уже жигулевского пива. Помните? Желто-голубая этикетка в виде скругленного полумесяца? Вот тогда-то Шихин и забрел в чужой, обезлюдевший двор, заглянул в разрушенный сарай и нашел там зеленый от времени самовар. И что удивительно — все краники, ручки, заклепочки у самовара оказались на месте. Очень удачная случилась находка, и Шихин несколько дней был совершенно счастлив. Этот самовар и поныне стоит у него на почетном месте, но Шихин далеко не всегда может вспомнить, когда он у него появился, откуда...
А вообще все это было давным-давно и вспомнилось Шихину лишь однажды осенью, когда он стоял на платформе, ожидая электричку на Москву. Ее долго не было, несколько поездов, как водится, отменили, собралось много народу, все были еще в осенних пальто, в плащах, с непокрытыми головами, а снег, мягкий, медленный снег шел все сильнее, по платформе мела легкая поземка, и наступили уже сумерки — не помню, право, зачем это Шихин собрался в Москву, на ночь глядя. Не иначе, как в Дом литератора, а там кто его знает...
И вот тут в сумеречной тишине со стороны Перхушкова, со стороны Жаворонок донесся еле слышный, до боли знакомый, ставший родным визг электрички, набирающей скорость после остановки на какой-нибудь заснеженной лесной платформе. И этот слабый звук, смягченный снегопадом, расстоянием, сумерками, вызвал у Шихина неожиданно ясное воспоминание о том далеком лете, о табунах друзей, которые наезжали к нему каждое воскресенье. Короткое, будто вспышка света, воспоминание промелькнуло и, еще до того, как показались огни электрички, до того, как вспыхнули в темноте упругие прочерки освещенных прожектором рельсов, он уже думал о другом, другие мысли тешили его и беспокоили, другие люди возникали перед его мысленным взором. А когда подошла электричка и распахнула ненасытные свои двери, он уже забыл о давних событиях на Подушкинском шоссе, и, как знать, когда он опять о них вспомнит, да и вспомнит ли... Разве уж случится нечто особенное в мире, нечто такое, что разорвет завесу времени, и снова он увидит людей, которые представляли тогда для него все человечество. И на короткое время возникнет из небытия деревянный дом с лесным участком, и увидит Шихин на крыльце себя самого, полного надежд, заблуждений, не наступивших еще разочарований.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу