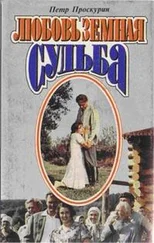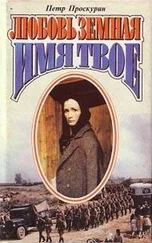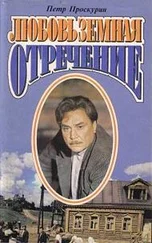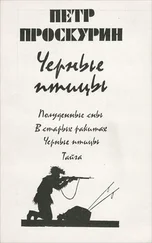— В чем дело, Вадим? Вы еще не все сказали? — спросил зять, стоя у двери и всем своим видом выражая полнейшую безмятежность.
— Вы ничего не ответили, — напомнил Одинцов, с трудом заставляя себя по-прежнему улыбаться, но Меньшенин все так же молча дал понять, что говорить по данному вопросу ему нечего.
— Конечно, нечего! нечего! — вспылил шурин. — Заварил кашу и забыл, другие расхлебывайте.
— Зачем волноваться, Вадим, — вполне искренне озадачился зять, — на тебя не похоже… Ну, не вышло, и пошли они к черту, придется отступить, другого не придумаешь.
— Хорошо бы к такому разумному выводу прийти раньше, — не удержался еще от одной колкости Одинцов. — Все ваше нынешнее смирение — так, маска, поди, опять детская игра. Те же свои недозрелые теории вы начинаете незаметно проводить в лекциях… вводить в смущение неискушенных, едва-едва оперившихся юнцов. А вам не страшно за их души, за их будущее? И надо наконец поставить все точки… Зачем вам понадобилось шельмовать перед теми же студентами мой последний учебник, мой самый дорогой труд?
— Шельмовать? — широко раскрыл потемневшие, даже где-то в глубине искристо взблеснувшие от неожиданности глаза Меньшенин. — Вы в самом деле так считаете? Остается лишь развести руками… А впрочем, вы хороший капитан…
— Что, что?
— У вас, дорогой родственник… вы не обижаетесь, что я так интимно вас называю? Нет? Ну и слава Богу, я так и думал, все-таки мы у себя дома… Так вот, у вас превосходная футбольная команда, — интернациональная, блеск! Вы прекрасно осведомлены о самых незначительных интересующих вас начинаниях…
— Не хамите, Алексей, это вам не идет… тон, тон! — опять возмутился Одинцов, теперь уже совершенно позабыв о первоначальном варианте разговора. — Потрудитесь обдумывать свои слова!
— Обдумываю, обдумываю, как же иначе? Знаете, давление слишком поднялось, пора, пожалуй, расходиться, — сказал зять. — Женщин волновать незачем. Спокойной ночи…
— Алексей…
— Да?
— Не хотите ли рюмку коньяку? — предложил шурин, с несколько виноватой ноткой в голосе. — Женщины женщинами, разумеется, это важный предмет, но нам как-то придется договариваться… жить ведь надо.
— Жить надо, — согласился зять, опять с насмешливым блеском в глазах. — И коньяку выпить надо… что ж, коньяку выпить неплохо.
Он вернулся на свое обычное место, Одинцов достал бутылку и рюмки, и вскоре они уже чокнулись и выпили; зять сразу до дна, а шурин едва-едва смочив губы.
— Вот и хорошо, — сказал Одинцов с облегчением. — Может быть, тебе, Алексей, дать рюмку побольше?
— Можно больше, — согласился Меньшенин, ощущая какое-то странное состояние отрешенности и пытаясь понять, что это такое; он взял из рук шурина большой хрустальный фужер старой ручной работы с каким-то вензелем, чуть ли не до краев налитый золотисто-темной жидкостью, и поблагодарил кивком, затем вздохнул. — И все-таки, Вадим, жизнь хороша, и я желаю ей продолжаться вечно, — сказал он, отпивая из фужера. — Хороший коньяк, даже я, дилетант, вряд ли ошибусь в оценке. Что с вами, Вадим?
Одинцов, застигнутый врасплох, не стал скрывать своей растерянности.
— Почему-то мне сегодня немного не по себе, — признался он. — С утра голова болела, с трудом дождался вечера. И возраст не такой уж преклонный, а я иногда… вот как сейчас, кажусь себе неимоверно старым…
И тут их глаза встретились.
— Давно известно, многие знания, многие скорби…
— Не надо, Алексей, к чему? — остановил зятя Одинцов. — Дело ведь не в том, что придется умирать, данная формула не подлежит обсуждению… вот кому свое дело оставить?
— У вас, Вадим, какое-то необъяснимое, упадочническое состояние. Кроме того, рядом с вами такая многогранная личность — профессор Коротченко, я думаю, он спит и видит себя в директорском кресле… А жить он будет долго! — Меньшенин засмеялся, разом допил свой бокал. — Новый интернациональный тип проклюнулся в эпохе: все уметь, ничего не делать, всем руководить и жить не менее ста лет. А самое главное, все контролировать: не повредит ли это дальнейшим видам России!
— Что, что? Ах да, как же! Вы все шутите, — не принял его тона Одинцов. — Команду какую-то придумал… налить?
— Ага, валяйте, Вадим, — оживился еще более Меньшенин, уже и без того возбужденный, раскрасневшийся, и с более резкими, чем обычно, стремительными глазами. — Говорить — так говорить начистоту! Слово фронтовика, дорогой шурин, я еще ни разу в жизни не сказал того, чего бы потом стыдился. Что ж обижаться, если ваша команда действительно идеально подобрана? Вы — стратег, подобного дара у вас не отберешь…
Читать дальше