— Когда король со мной разговаривает, он отзывается о вас хорошо, — уточнила она и сразу же пожалела об этом; зачем она это сказала? «Когда он со мной разговаривает». Он, конечно же, понял, что она имела в виду, но ведь это его не касалось.
Ответа не последовало.
— Но ведь я вас не знаю, — добавила она холодно.
— Нет. Меня никто не знает. В Копенгагене.
— Никто?
— Здесь — нет.
— А у вас есть другие интересы, кроме… здоровья короля?
Теперь он казался более заинтересованным, словно его неприступность дала трещину, и он впервые посмотрел на нее внимательным взглядом, как будто очнулся и увидел ее.
— Философия, — сказал он.
— Вот как. А еще?
— И верховая езда.
— А-а-а… — сказала она. — Ездить верхом я не умею.
— Ездить верхом… можно… научиться.
— Трудно?
— Да, — ответил он. — Но восхитительно.
Теперь, подумала она, эта короткая беседа слишком быстро сделалась чересчур интимной. Она знала, что он увидел запретное. Она была в этом совершенно уверена; внезапно она разозлилась на саму себя, на то, что ей пришлось добиваться этого. Он должен был увидеть сам. Без помощи. Как остальные.
Она двинулась дальше. Потом остановилась, обернулась и быстро спросила:
— Вы ведь чужой человек при дворе.
Это был не вопрос. Это была констатация. Это должно было определить его место.
И тогда он произнес как нечто совершенно естественное и само собой разумеющееся абсолютно справедливые слова:
— Да. Как и Вы, Ваше Величество.
И тут она уже не смогла удержаться.
— В таком случае, — быстро и равнодушно сказала она, — вам придется научить меня ездить верхом.
Граф Рантцау, который как-то раз, всего лишь год назад, высказал Гульбергу идею, что немецкий врач Струэнсе был бы подходящим лейб-медиком для короля, теперь не знал, что и думать.
Каким-то непостижимым образом он чувствовал, что ситуация вышла из-под контроля.
То ли все получилось хорошо. То ли он ошибся в своем друге и ученике Струэнсе. Тот все время находился возле короля, но казался удивительно пассивным. Такая близость с Его Величеством, но вокруг этой пары такая тишина. Говорили, что Струэнсе теперь вскрывает почту короля, отбирает важное и пишет тексты королевских декретов.
Что же это такое, как не намек на власть. И не только намек.
По этой причине он пригласил Струэнсе прогуляться по городу, чтобы разобраться в «деле кровопускания».
Он выразился именно так. Дело кровопускания было, как он полагал, правильной точкой соприкосновения для восстановления былой близости с другом.
Молчаливым человеком из Альтоны.
Они пошли по Копенгагену. Струэнсе, казалось, совершенно не волновали упадок и грязь, словно они были ему слишком хорошо известны, а Рантцау пришел в ужас.
— Эпидемия оспы может достичь двора, — сказал Рантцау. — Проникнуть туда… оставить нас беззащитными….
— Несмотря на датскую оборону, — сказал Струэнсе. — Несмотря на большие ассигнования на армию.
— Необходимо защитить кронпринца, — холодно возразил Рантцау, поскольку он не видел здесь повода для шуток.
— Я знаю, — быстро и, будто обороняясь, сказал Струэнсе. — Королева уже просила меня. Я этим займусь.
Рантцау чуть не онемел, но собрался с духом и сказал то, что нужно, нужным тоном.
— Королева? Уже? Отлично.
— Да, королева.
— Король будет обожать тебя до конца дней твоих, если кровопускание пройдет удачно. Он ведь тебя уже и так обожает. Это потрясающе. Он доверяет тебе.
Струэнсе не ответил.
— Каково вообще… состояние… короля? На самом деле?
— Неоднозначное, — сказал Струэнсе.
Больше он ничего не сказал. Именно так он и думал. Он полагал, что за эти месяцы, прошедшие после возвращения из Европы, сумел понять, что состояние короля было именно неоднозначным.
В Париже был пережит великий миг, когда Кристиан беседовал с французскими энциклопедистами. И в течение нескольких недель он думал, что король излечится; что душа этого маленького мальчика, конечно же, была тронута холодом, но что не все еще потеряно. В те недели Кристиан, казалось, пробудился от спячки и говорил о том, что его задачей было создание государства разума, что королевский двор был сумасшедшим домом, но что он целиком и полностью полагается на Струэнсе.
Он полагался целиком и полностью. Целиком и полностью. Это он постоянно повторял.
Но мотивы этой преданности были весьма загадочными или — угрожающими. Струэнсе должен был стать его «тростью», сказал он; словно бы он снова сделался ребенком, отнял палку у своего жуткого надзирателя и теперь вручал ее в руки новому вассалу.
Читать дальше
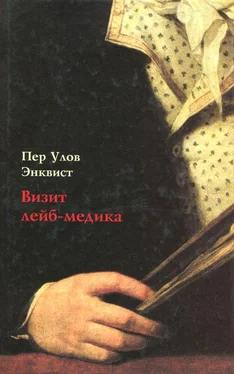






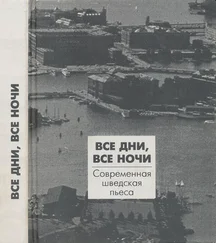
![Пер Энквист - Библиотека капитана Немо [Роман]](/books/396658/per-enkvist-biblioteka-kapitana-nemo-roman-thumb.webp)



