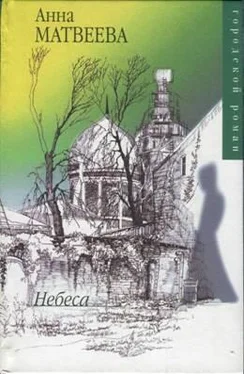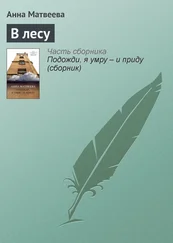Единственный раз, вечером, сосен оказалось шесть — присмотревшись, я опознала грузную фигуру Кабановича, вросшую в сугроб. Кабанович печально разглядывал окна, в руке у него розовел пластиковый пакетик. Вначале я отпрянула, гремя сбитыми ведрами. Потом испугалась, что он уйдет, и побежала в палату за курткой. Из полулюкса снова был виден Кабанович, в смутно-лиловых сумерках можно было различить растерянное выражение, прилипшее к его лицу — в обычное время самодовольному, как у милиционера. Я натягивала куртку: рука судорожно искала пойму рукава, но промахивалась.
— Привет!
Он грузно шел по снегу, глядя искоса и враждебно: такими рисуют пленных фашистов. Отовсюду к нам сбегались собаки, наступало их время. Лохматые кренделя хвостов суетились вровень с нашими коленями.
Я принес твои вещи, — протягивал он розовый пакетик.
— Собаки лаяли.
Кабанович в самом деле принес мои вещи — в пакетике нашлась книга «Зеленый Генрих» (в порыве страсти доверенная Кабановичу и отвергнутая им после первой же прочитанной страницы), колода карт для вечернего деберца с Эммой, чеснокодавилка и кассета с «Доном Карлосом». Эти вещицы самопроизвольно поселились в семейном гнезде Кабановичей, а теперь были безжалостно высланы. Я смотрела на них, жалких свидетелей моей любви, а Кабанович щурился, как от дыма, и зяб в своем легком пальто.
— Может, ты передумаешь? — спросил он, и мое сердце попыталось сорвать поводья.
Я отогнала собаку, вьющуюся вокруг наших ног, словно это были античные колонны, и прикусила щеку до сладкой кровяной боли…
— Я все еще люблю тебя, — сообщил Кабанович, пытаясь взять мою руку, сухую и окоченевшую, как мерзлая ветка.
— Я тоже тебя люблю, но ты мучаешь мать. И не веришь в Бога.
Кабанович нагнулся ко мне:
— Зачем приплетать религию? Ты вроде бы тоже поклонов не бьешь?
Он махал своими огромными руками, похожими на лопасти, кричал, что Бога нет, и если я хочу сохранить остатки разума, то надо срочно рвать когти из этой психлечебницы, где мне и так уже задурили голову. Он кричал все громче, пугая собак и больных, ступивших на ежевечернюю тропу к столовским воротам. Крик стал смехом, визгливым, бабьим смехом, Кабанович хохотал, и больные успокаивались: он всего лишь один из них, один из нас, такой же, как все. Я не хотела, чтобы Кабанович уходил, но еще больше боялась, что он останется здесь, хохочущий в снегу, изрытом глубокими ямами чужих следов.
Мы расстались не прощаясь и не глядя друг другу в спину.
Через месяц меня все же выпустили из «Рощи». Прощальная встреча нашей группы закончилась всеобщим фотографированием «Поляроидом», и мне, к сожалению, не удалось сбежать до того, как Эсэс начала выстраивать больных рядками. На прощание она сказала мне:
— Не пройдет и года, как ты сюда вернешься, Аглая.
Она теперь снова была со мной на ты.
Забирал меня Алеша, он сильно торопился, поэтому быстро зашвырнул в квартиру мою сумку и сбежал под мамины обещания сварить кофе. Мама смотрела на меня с испугом, и я не стала упрекать ее — хотя из тридцати дней минувшего месяца она могла бы потратить несколько часов на поездку в клинику.
Диванные подушки в моей комнате были разложены так, как их обычно укладывал Кабанович наутро после побывки — расшвыривал без всякого интереса к процессу.
Оказалось, что вид этих подушек причиняет мне боль, и почти точно так же больно было смотреть на старые книги за стеклами — ни одна из них не смогла бы помочь мне. Любой предмет в комнате тянул за собой воспоминание, как ребенок тянет за собой машинку на веревочке. Вещи и воспоминания обступали, будто воины Цинь Шихуана, и мне было совсем уже нечем дышать.
Сдвинув стекло в сторону, я сняла с полки несколько книг, скрывавших второй, секретный ряд. Там прятались мои любимцы, не предназначенные для посторонних глаз: Сашенька издевалась бы, узнав, что я все так же нежно листаю страницы Кэрролла и Трэверс. Мое отношение к книгам никогда не было высокомерным — я отметала всякие упреки в недостаточной знатности рода и могла искренне, всем сердцем, полюбить безвестную простушку в сереньком переплете. Или скромный том позабытого ныне автора — а ведь прежде, думала я, слова его гремели в людских умах, как fanfare, bombardon и grosse caisse одновременно. Теперь позабытая книга обидчиво давилась собранной пылью: как радостно мне было пробуждать былую память, по ложечке соскребая ее с душистых страниц — эти старые книги всегда пахнут, как осенние листья.
Читать дальше