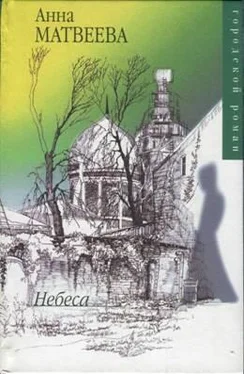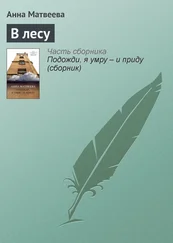Тем временем Сережа с Эммой Борисовной исполняли в четыре руки каватину Феррандо: «Мюльбах» отзывчиво дрожал регистрами, и даже выпавшее ре в третьей октаве чудом вернулось на место. Сережа так разошелся, что после каватины сольно исполнил еще и сонатину Кулау: золотая печатка громко стучала по клавишам, придавая произведению ритмический акцент. Эмма Борисовна ела конфеты и слушала прекрасного Сережу, Кабанович в кухне хмуро наливался злобой. К счастью для самого себя, Васильев не дождался кипения. Не хватило жалких секунд, пока у Кабановича не сорвало крышу и взгретая алкоголем злоба не охватила однокомнатное гнездо со скоростью лесного пожара, что пожирает чащу, оставляя обугленные трупы деревьев. Сережа решительно поставил на стол чашку, на дне которой подсыхали бурые чаинки, чмокнул учительницу в теплую морщинистую щеку и сбежал вниз по лесенкам, насвистывая сонатину. Элегантно всунувшись в блестящую капсулу заморского автомобиля, Сережа красиво выехал со двора — и его эффектный отъезд стал сигналом к началу военных действий для Кабановича, мрачно курившего в кухонное окно.
Эмма как раз собралась угостить сына Сережиными конфетами — шоколадные бомбочки сладко взрывались во рту, и нёбо вспарывал терпкий вкус ликера. Кабанович столкнулся с матерью в дверях и со всего маху заехал ей кулаком по лицу: открытая коробка, где в золоченых впадинках темнели сласти, упала под ноги Кабановичу — он несколько раз пнул злосчастный картон, так что конфеты раскатились по комнате. Прикрываясь руками, Эмма и не думала оправдываться, ведь Виталику в самом деле неприятно, когда домой приходят чужие люди. Правда, это был не чужой человек, это же Васильев Сережа…
Кабанович кричал, чтобы мать не смела издеваться над ним, устраивая балаган с песнями и плясками, разве ей не известно, как дико сын устает на работе? Разве он, кормилец и одевалец родной семьи, не имеет права провести вечер в тишине, под неназойливые звуки телевизионной викторины?
Эмма соглашалась с каждым словом сына, но он никак не мог насытить свою злобу и потому принялся истязать несчастный «Мюльбах», еще не остывший после Верди и Кулау. Финальным аккордом жуткой симфонии стало мое появление.
«Знаешь, Глашенька, — доверительно сказала Эмма (голос ее дребезжал, как фарфор в трясущихся руках), — я исключительно жалею инструмент, но лучше бы он вырвал все клавиши, чем поднял руку на тебя». Впрочем, уже через миг Эмма вновь начала свои уговоры не бросать бедного мальчика, «ведь он так сильно тебя любит!».
Наступление велось по всем фронтам: Эмма не слезала с телефона, а Кабанович являлся ко мне с темнотой, как привидение, и дарил огромные растрепанные букеты, похожие на хвосты цирковых лошадей. Он падал на колени и стучал головой о стену, так что мама пугалась и выбегала из кухни. Он закусывал губы и сплевывал в ладонь кровавую слюну, обещал, что больше никогда… Ни за что…
Я видела нелепость этих сцен, и верить им было невозможно. Меня примерно так же раздражала николаевская версия «Il Trovatore», где пожилая, обтрепанная, будто библиотечный фолиант, Леонора тянула руки к Манрико — обрюзгшему дедушке и сладкоголосому трубадуру: «Тасеа la notte placida е bella in ciel sereno…» Что было у них общего, кроме старости, как могли эти развалившиеся люди умирать во имя любви? Эмма спорила со мной в антрактах: оперное искусство условно, следует оценивать не тело, но голос.
…Я слушала фальшивые ноты Кабановича и не могла прогнать его, как не смела выкинуть ужасные букеты, как не бросала трубку с дребезжащим голосом Эмми…
Исчерпавшись, Кабанович решился на крайнюю меру — неловко примостившись на одно колено, он попросил меня стать его женой, и я с ужасом услышала «да», произнесенное собственным голосом.
Сашенька, услышав новость, расхохоталась: как раз в это самое время она тоже собралась замуж.
Жесткий конкурс на звание жениха выиграл бывший одногруппник и коллега по строительному отряду Алеша Лапочкин. Фамилия у него была излишне веселая, и Сашенька намеревалась остаться при нашей девичьей — Ругаева. Родовая фамилия Лапочкину не шла — он был мощным и надменным, как флагманский крейсер. Мне Алеша показался еще и бесстрастным, а может, он бледнел на фоне вечно кипящего Кабановича, исповедующего истерику как стиль жизни.
Из Лапочкина получался превосходный антипод Кабановичу, и в этот антипод немедленно влюбилась наша мама: готовила жениху фаршированные куриные ножки, хихикала даже в тех случаях, когда Алеша не шутил, и вообще вела себя очень возбужденно. Кабанович не мог сподвигнуть маму к банальной яичнице — ее хватало только на раздраженное «здрасте», к которому не выдавалось (и не выдавливалось) даже самой кривой улыбки.
Читать дальше