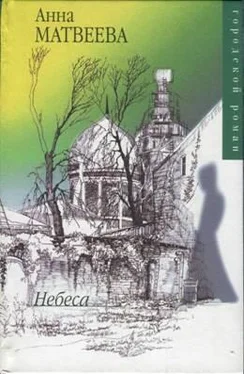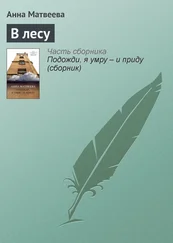Вспомнив предысторию своего возникновения на диване, я отвела глаза от Кабановича и начала разглядывать шрам на тыльной стороне ладони: мне было семь, когда я помогала бабушке резать яблоки для компота и неловко саданула ножом по руке, перепутав ее с таким же белым, как моя кожа, наливом. Кровь хлестала, словно вода из пробитого шланга. Рана довольно долго болела, заживала не по-детски медленно и в конце концов превратилась в неровный белый рубец. Шрам этот рос вместе со мной — увеличивался по мере того, как моя ладошка становилась ладонью. Теперь я вновь разглядывала этот шрам, вспоминала белые прозрачные яблоки, острый нож с мелкими, нацарапанными по лезвию буковками «нерж», красные капли-звездочки, падавшие дорожкой на пол, как будто я была Мальчик-с-Пальчик, а не Девочка-с-Раненой-Рукой. Я вызывала из памяти резкий запах йода, и давленный в ложке белый порошок стрептоцида, и бабушкины глаза, полные слез и страха, — все это нужно было вспоминать, любовно подбирая деталь к детали, лишь бы не встречаться взглядом с Кабановичем и не чувствовать дрожащей, гулкой боли в виске.
— Прости меня! — трепетно твердил Кабанович, на заднем плане всхлипывала Эмма. Было душно, нестерпимо пахло нашатырем. Я попыталась встать, но тут же упала обратно — голова жарко кружилась, словно в нее налили горячей жидкости, перед глазами вместо Кабановичей плавали цветные пятна.
— Ей в больницу надо, Виталичек! Вдруг сотрясение? — плаксиво сказала Эмма Борисовна: синяк на ее щеке окончательно оформился. Кабанович прикрыл глаза, словно от адской боли, и стал еще больше похож на античного юношу. «Гений, попирающий грубую силу…»
Эмма накручивала телефонный диск — всего дважды, значит, в «скорую».
— Тяжкие телесные, — тихо прорычал возлюбленный, и Эмма Борисовна испуганной птичкой тюкнула трубку на рычаги. Мне совершенно не к месту стало смешно, и на волне этого смеха я снова постаралась подняться. Добряга Эмма поддерживала меня за локоток. В голове, судя по ощущениям, кипятили ту самую воду, которая была влита несколько минут назад, но я упорно шагала к двери, сдерживая рвущуюся тошноту.
«Мы расстаемся не навсегда!» — крикнул Кабанович, когда я закрывала за собой черную, обитую старомодным дерматином дверь: его крик угодил прямо в висок словно еще один удар. Меня стошнило на площадке у лифта — перешагнув через зловонную лужицу, я долго не могла прижать прямоугольник кнопки вызова: слишком дрожали руки.
К вечеру начался град, сначала — настоящий, из ледяных шариков, метко стрелявших с небес по пешеходам, а потом телефонный: Эмма устроила ковровую бомбардировку, звонила каждый час, моля «одуматься». Из бесконечных рассказов восставала первопричина ярости, бросившей Кабановича в атаку на беззащитный музыкальный инструмент, родную мать и любимую, как мне прежде казалось, девушку.
…Пока я получала синий диплом, в дом Кабановичей нагрянул бывший Эммин ученик Сережа Васильев. Лет двадцать назад Эмма преподавала ему сольфеджио и специальность — так что Васильев был вдвойне признателен любимой учительнице. Он до сих пор производил впечатление на женщин как чистотой пения в караоке, так и беглой фортепьянной пробежкой. Не говоря уже о том, восклицала Эмма, что Сережа все еще помнит, куда разрешается доминантсептаккорд! Помню ли я, куда разрешается доминантсептаккорд? Я мотала головой, а Эмма непринужденно вздыхала: «Он разрешается в тонику, Глашенька, и ведь Васильев это помнит!»
Эмма Борисовна захлебывалась воспоминаниями о Сережином детстве. Каким он был тонким и нежным мальчиком! В памяти Эммы нашлось место и картонной папке на тесемках, в которой Васильев носил нотные тетради, и стопке сонат, которые лежали на стульчике, чтобы мальчик мог дотянуться до клавиш, и слишком громкой левой руке, и пальцы — «Глаша, он все время путал пальцы!».
Пальцы взрослого Васильева были препоясаны золотыми перстнями, робкие глазки приобрели мохнатый взгляд. Никто не узнал бы в этом бизнесмене некогда щуплого мальчика, но мальчик все еще жил в Сереже и уговорил бизнесмена явиться в гости к любимой учительнице — без приглашения, зато с громадной коробкой конфет под мышкой.
Это явление пробудило в моем возлюбленном целый сель чувств, и они хлестали беспощадно, наподобие тропического ливня. Кабанович не любил людей в принципе, а уж людей, что достигли успеха и врываются к нему в дом с конфетами, он, как выяснилось, от всего сердца ненавидел. Вот почему Кабанович совершенно не обрадовался гостю, а с обратной точностью пришел в бешенство и выпил бутылку «Столичной». Пил он в кухне, пил быстро и с каждым глотком бесился все больше, словно вливал в себя не крепкоалкогольный напиток, а концентрированный раствор ярости.
Читать дальше